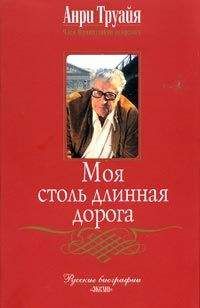— Почти сорок.
— Это прекрасный возраст для женской красоты.
— Вы так считаете?
— Ну да, — сказал он. — Она расцветает перед увяданием.
Он сложил пальцы венчиком. Элизабет прошлась по сковородке кусочком хлеба и вздохнула:
— Может быть, я этого не замечаю…
— Значит, в детстве вы жили в Париже, — продолжил он. — Какая жалость! И чем же занимались ваши родители?
— Какой вы, однако, любопытный!
— Да, я очень любопытный, — подтвердил он, окинув ее пронизывающим взглядом.
— У них было одно торговое заведение.
— Это очень неопределенно. Какое?
— Кафе на бульваре Рошешуар.
— А! Позвольте я представлю себе обстановку. Кафе, до блеска начищенная стойка, лампы, шум улицы, клиенты, которые входят и выходят, любители игры в белот[4], сидящие в уголке, и вы, маленькая в фартучке, затерянная среди взрослых, все видящая, все слышащая, правильно?
— Абсолютно точно.
— У вас были подружки?
— Да, но только в школе. Я почти всегда была с няней. Позже, когда меня отправили в пансион…
— Вас отправили в пансион? В каком возрасте? Куда?
Он с такой настойчивостью задавал вопросы, что она воскликнула:
— Не стану же я рассказывать вам всю мою жизнь!
— Наоборот. Это необходимо. Всю вашу жизнь маленькой девочки, — сказал он.
— А когда, по-вашему, заканчивается моя жизнь маленькой девочки?
— Она еще не закончена, Элизабет. Итак, пансион…
— Он находился в Сент-Коломбе, в департаменте Лот, — сказала она. — Директриса была необыкновенная женщина!
— Я представляю ее себе. Старая уродина, сухопарая и злая…
— Вовсе нет, мадемуазель Керон была красивой, несколько бледной, с тонкой талией. Она всегда была одета в черное. Она была очень набожна…
— А вы, Элизабет, вы очень набожны?
— Я была такой в десять-одиннадцать лет… Теперь нет… Ну, я не думаю… Я больше не хожу в церковь… Но в Сент-Коломбе мы ходили в часовню три-четыре раза в день. Это было так далеко! Ну вот теперь вы знаете все.
Он сел на диван напротив нее и сказал:
— Нет, я не знаю всего, Элизабет. Продолжайте.
Она никогда бы не поверила, что кто-нибудь заинтересуется ее скудными воспоминаниями о детстве. Поначалу вопросы Кристиана забавляли ее, но потом даже взволновали. Воспоминания, нахлынувшие на нее, приобретали новую окраску, потому что ему хотелось слушать их.
— Что я могу сказать вам еще? — прошептала Элизабет. — После пансиона в Сент-Коломбе родители отправили меня к своим кузенам, работающим учителями в Коррезе. Затем в пансион в Кламару.
— Какой вы были девочкой? — спросил он.
— Думаю, очень ленивой в учебе, очень недисциплинированной, своенравной. Грустно маленькой девочке жить отдельно от своих родителей. Но если они не могли меня держать при себе из-за этого кафе.
— А вы были счастливы, учась в школе в Коррезе?
— Да. Я чувствовала там себя хорошо.
Поощряемая им, она рассказала ему о кузине Женевьеве, о дяде Жюльене, говорившем о грамматике и арифметике даже во время еды, о тете Терезе, маленькой женщине, трепетавшей от восхищения перед своим мужем, такой смешной в ночном хлопчатобумажном чепчике, о ее приступах астмы, о ее пирогах и о ее веселой снисходительности, о ребятах из школы, о Мартенс Байссе, рыжем мальчике, который украл коллекцию минералов из застекленного шкафа в классе. Щеки Элизабет горели от возбуждения, а Кристиан смотрел на нее, слушал с очаровательным вниманием, словно она рассказывала о сотворении мира. Синеватые сумерки окутали комнату. Элизабет посмотрела на часы, циферблат которых был едва различим:
— Без десяти пять! Мне надо идти…
Он встал одновременно с ней и сказал:
— Нет, побудьте еще немного, Элизабет.
— Это невозможно, Кристиан. Невозможно!
Она повторяла это слово, и зрачки ее глаз расширялись, а в груди бешено колотилось сердце. Все ее поле зрения было заполнено лицом Кристиана. Призыв невероятной нежности исходил от этого человека с зелеными глазами, стоявшего молча и неподвижно. Вдруг она бросилась в его объятия и простонала, словно избавившись от какой-то тяжести.
— Я люблю вас, Кристиан!
Их губы встретились, и Элизабет закрыла глаза. Руки Кристиана ласкали плечи, бедра девушки, поворачивали ее слегка и касались ее груди. Элизабет чувствовала пробегающие от живота к голове темные волны. Наконец она оторвалась от него и, задыхаясь, прошептала:
— Позвольте мне уйти, Кристиан!
Он нежно поцеловал ее в лоб и тихо спросил:
— Вы придете завтра?
— Куда? Сюда?
— Конечно.
Готовая уступить, она сжалась, словно увидев ловушку:
— Нет, Кристиан… Я не смогу…
Зубы Кристиана заблестели на его загорелом лице. В тот момент, когда Элизабет этого менее всего ожидала, он рассмеялся. Она вздрогнула, нервы ее напряглись.
— Вы не сможете? — спросил он. — Тогда не будем больше говорить об этом!
Удивившись, она отступила. Он заметил ее волнение и продолжал более мягким тоном:
— Встретимся завтра у канатной дороги на Рошебрюн, в три часа. Покатаемся на лыжах вместе. В этом-то вы не можете отказать мне, Элизабет?
— А если я буду не одна?
— А вы устройте так, чтобы оторваться от ваших друзей.
— Хорошо, — сказала девушка.
Он взял ее руки, осмотрел их, словно это были драгоценные предметы, поцеловал их и проводил ее, полную восхищения, до самой двери.
На улице темнота и сильный мороз отрезвили ее. На небе сверкали звезды, снег на крышах казался голубым и золотистым перед освещенными окнами домов. Элизабет пересекла деревню, неся лыжи на плечах. Окна кондитерской сковало морозным узором. Было невозможно увидеть, что происходит внутри. Девушка встряхнула волосами, приставила лыжи к стене и прямо из ледяной мглы шагнула в тепло, наполненное запахами миндального крема, шумом разговоров и звоном ложечек. Сесиль сидела одна за круглым столиком.
— Вы давно меня ждете? — спросила Элизабет.
— Нет, мы только что вошли, — сказала Сесиль.
И добавила с заговорщической улыбкой:
— Мы тоже немного побегали.
Рядом с ней на столе валялись газеты и журналы.
— А где Глория? — спросила Элизабет.
— Она наводит красоту в туалете. Сегодня на горе было так здорово, и мы пожалели, что вас не было с нами.
Царственной походкой из туалета вышла Глория. Она села, подозвала официантку и заказала три чашки чая с лимоном.
— Нам надо торопиться, — сказала Элизабет. — Иначе мама начнет беспокоиться.
— Мадемуазель Пьелевен тоже будет беспокоиться, — сказала Глория с озабоченным видом.
— Сейчас мы им позвоним. Мне так хорошо здесь, — вздохнула Сесиль.
— Во всяком случае, тебе надо пойти причесаться. Если бы ты сейчас видела себя!
Не слушая сестру, Сесиль дернула Элизабет за рукав и прошептала:
— Осторожно оглянитесь!
— А кто там?
— Этот серьезный парень, который недавно приехал с матерью! Мадемуазель Пьелевен сказала мне, что его зовут Патрис Монастье.
— Я знаю, — ответила Элизабет.
— Да, но вы не знаете, что он пианист.
— Неужели?
— Очень талантливый пианист. Конечно, еще не знаменитый, но он уже давал концерты. Мадемуазель Пьелевен уверяет, что он приехал в Межев, чтобы отдохнуть после болезни. У него было что-то легочное… Я нахожу, что он просто великолепен!
Элизабет повернула голову и за соседним столиком увидела бледного брюнета с лихорадочным блеском глаз и слегка оттопыренными ушами. Его мать, худощавая женщина маленького роста, с обесцвеченными волосами и накрашенным ртом, говорила с ним вполголоса, надавливая вилкой на слоеное пирожное с сахарной пудрой. Заметив Элизабет, оба вежливо улыбнулись ей. Она ответила им улыбкой и сказала шепотом сестрам:
— Не понимаю, что вы нашли в нем великолепного?
— Я тоже, — сказала Глория.
— Значит, вы плохо рассмотрели его, — сказала Сесиль. — У него глаза… горят как угли! А его лоб. Вот это лоб! Большой, открытый.
— Настолько открытый, что скоро у него не останется волос, — сказала Глория.
— Кто бы говорил! — воскликнула Сесиль. — Я думаю, что через три года у твоего жениха тоже будет лысина!
Глория покраснела, задетая за живое, и проговорила:
— Прошу тебя, Сесиль. Не станешь же ты сравнивать Паскаля с этим несчастным!
Элизабет никак не могла заставить себя заинтересоваться этим разговором. Счастье переполняло ее. Она оживляла в памяти встречу с Кристианом, представляла, как он сидит один в своей комнате, спрашивала себя, что он думает о ней после ее ухода. В своей задумчивости Элизабет не заметила официантку, подошедшую с подносом, на котором стояли чашки. Сесиль вскочила и сказала: