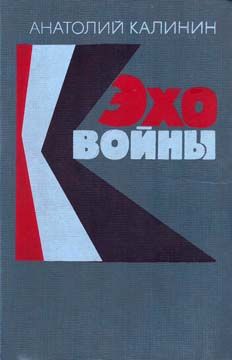В молодости Серафима Антоновна преподавала в школе историю. К тому же, как выяснится впоследствии, обладала тонким диалектическим чутьем.
Кудрявцева предложила зажечь свечи. Откуда-то появилась гитара. Маша спела под ее аккомпанемент «Ночи безумные» Чайковского. Ей слегка фальшиво вторил актер с приклеенными усами. Потом она села на пол посередине комнаты, красиво разметав юбку, попросила гитару и стала петь один за другим старинные русские романсы. У нее был низкий хрипловатый голос, совсем не похожий на тот, каким она говорила. Даже видавшие виды актеры затаили дыхание, внимая ее пению. Она попросила не аплодировать, и один романс очень естественно переходил в другой. Наконец она замолчала, положила гитару, медленно поднялась с пола. По ее лицу текли слезы. Она закрыла лицо ладонями и стремглав кинулась в спальню, плотно прикрыв за собой дверь.
Кудрявцева первая пришла в себя, включила свет и предложила тост за «божественный дар Марьи Сергеевны».
— Не трогайте ее — она должна побыть одна, — сказала Елена Давыдовна направившемуся было к двери спальни Сан Санычу. — Это часто случается после эмоционального перенапряжения. Особенно у тех, кто долго сдерживал эмоции. Ах, Николай Петрович, какой же у вашей жены божественный голос! У меня до сих пор мурашки по спине бегают. Вот где пропал большой драматический талант.
И Кудрявцева даже вздохнула.
Маша скоро вышла к гостям. Густо напудренная, с гладко зачесанными, собранными в пучок волосами, в строгом черном платье. Все мужчины, кроме Николая Петровича, кинулись целовать ей руки. Крокодильша тоненько вскрикивала:
— Тарасова! Русланова! Вяльцева! Шульженко!
Маша села в кресло, вытянув длинные стройные ноги, и Сан Саныч, изобразив из себя пьяного, улегся возле них под гомерический хохот всех гостей. Он попытался поцеловать ей ногу, но Маша тут же поджала ее под себя, и Первый уткнулся носом в ее колени.
Николай Петрович увидел выражение брезгливости на лице Маши и испугался, как бы она не выдала своего отношения к Первому.
Но Маша сдержалась. Она даже погладила Первого по лысине, правда, тут же отдернула руку и спрятала ее за спину. Крокодильша сказала:
— Ну вот и разрушен домострой.
И захлопала в ладоши.
Николай Петрович успел заметить, как в глазах ее блеснул злорадный огонек.
На этот раз премия оказалась в три раза увесистей. Не долго думая, Николай Петрович заехал все в тот же ювелирный магазин на углу Центральной и Коммунистической и выбрал для Маши браслет с рубинами. Потом его внимание привлекли маленькие золотые сережки в виде стебелька с двумя цветочками-аметистами. Он представил восторги Машки, которой сережки наверняка понравятся. Себе он купил скромные серебряные запонки. А еще, подчиняясь минутному порыву, попросил положить в отдельную, выстланную черным бархатом коробочку серебряные серьги с синими сосульками-стекляшками для Веры.
Накануне ему приснился сон, что умерла Ната. Он пытался связаться по телефону с райцентром и попросить своего друга — председателя колхоза — заехать к Устинье. Но телефонистка сказала, что гололедица оборвала провода и связи нет. Николай Петрович старался убедить себя в том, что сны — это предрассудки, что верить им все равно что верить в существование Бога, однако весь день жил под его впечатлением. Раздавая вечером подарки, поймал себя на том, что его почти не трогает радость домашних. И он даже разозлился на себя. Ну и что, если Ната умерла? Что ему до нее? И кто она ему? Умерла — значит, отмучилась. Таким, как Ната, нет места на земле.
На следующий день его вызвал Первый и попросил (последнее время он именно просил Николая Петровича, а не приказывал ему) съездить в тот самый райцентр.
— Понимаю, дороги, можно сказать, нету. Но ты возьми мой вездеход. Да и мой Лешка поопытней твоего Виктора, — говорил Сан Саныч. — Там у них взяли и закрыли сдуру церковь — это твой протеже Суриков постарался. Верующие возмутились и написали в обком. Уладь уж как-нибудь все миром, а? С батюшкой поговори. Ну, чтобы они хотя бы в колокола свои не звенели на всю округу. С религиозным дурманом, как и с алкоголем, запретами бороться нельзя. Тут нужно очень гибкую и осторожную тактику избрать.
И Николай Петрович почему-то очень обрадовался возможности съездить в свой бывший район, хотя уже и избавился от гнетущего впечатления того сна. Заехал домой за полушубком и валенками — в вездеходе было почти как на улице, — прихватил несколько бутылок водки и охотничьих сосисок на случай, если они с Лешей застрянут в хлябях раскисших от дождей грунтовых дорог.
Уладив по-быстрому дела — молодой попик оказался неглупым и очень сговорчивым человеком, ну а Суриков был вынужден подчиниться партийной дисциплине, — Николай Петрович велел Леше спуститься по скользкой, как каток, дороге, ведущей прямиком к дому у реки. Один раз вездеход так занесло на раскисшей глине, что шофер удержал его буквально в десяти сантиметрах от обрыва. И тут Николай Петрович вспомнил, что сны нужно понимать не буквально, а еще уметь их толковать. Вот его бабушка была крупным специалистом по этому делу — к ней, помнится, вся улица бегала. Быть может, сон про Натину смерть был каким-то предупреждением для него, Николая Петровича. Ему вдруг сделалось очень неуютно, и он отхлебнул из фляги добрый глоток водки.
Ната была жива — ей даже заметно полегчало. Она ходила по жарко натопленной комнате все в тех же брюках и тельняжке, в которых Николай Петрович увидел ее в тот день на обрыве. И он неожиданно для самого себя обрадовался, что Ната не умерла. Выставил на стол водку и выложил колбасу, сказав, что они с Лешей непременно заночуют — уже смеркается, а дорога похожа на сплошное болото. Леша, похлебав горячего борща, ушел спать. Ната только пригубила рюмку с водкой и отодвинула от себя. А вот Устинья пила так, что он только успевал ей подливать. Пила и не пьянела, а лишь смотрела на него настороженно из-под прищуренных век.
Николай Петрович не выдержал и спросил:
— Чего молчишь? Говори, не съем я тебя. Да ты меня и не боишься.
Устинья стрельнула глазами в сторону Наты, процедила едва слышно: «Потом», — и хлобыстнула водки. Ната, почувствовав, что она лишняя, сказала, что идет спать, потянулась и ушла в свою жарко натопленную комнату.
Устинья встала, поплотнее прикрыла дверь и даже накинула на нее крючок.
— Анджея видели, — сказала она, не спуская глаз с Николая Петровича.
Николай Петрович не сразу вник в смысл слов Устиньи. Имя «Анджей» сохранилось в его памяти как бестелесный символ его фронтового друга. Почему-то последнее время он и не вспоминал его в связи с этим домом у реки.
— Видели? — машинально переспросил Николай Петрович, еще не до конца осознав значение этого глагола. — Где? Когда?
— В соседнем районе. С ним заговорил Васильич, бакенщик. Сказывал, он длинную бороду отрастил и работает паромщиком. Васильич божится, что это был Анджей, хотя тот назвал себя Иваном Федоровичем. Я верю Васильичу — он попусту болтать не станет.
— А потом… потом его видел кто-нибудь?
— Нет. Я в тот же день, как мне Васильич рассказал, поехала туда на лодке — это всего-ничего, каких-то сто километров по течению. Но там уже работал на пароме дед. Тот человек у них всего десять дней проработал, получил двадцать трудодней мукой, постным маслом и исчез. У него была справка на имя Ивана Федоровича Гриценко. Вроде бы по форме и с гербовой печатью.
— Вот видишь, Васильич твой мог и обознаться, — с облегчением сказал Николай Петрович. — Если бы Анджей был жив, он бы давно объявился.
— Зачем? Нельзя ему объявляться. Нельзя.
— Чего-то ты не договариваешь.
— Да, не договариваю. Не надо, не надо, Петрович, ни о чем меня больше спрашивать. Ой, не надо.
Он открыл еще одну бутылку и налил им с Устиньей по полной граненой рюмке водки. Она выпила свою залпом, не закусывая. Николай Петрович понял с внезапной отчетливостью, что хмель его не возьмет, выпей он хоть бочку. В голове шумело, точно его мозг, дойдя до определенного состояния, стал превращаться в иную форму материи.
— Назад я возвращалась трое суток, — рассказывала Устинья. — Как нарочно, поднялся встречный ветер, и по реке гнало высокие волны. Я тащила лодку на себе, а вода в реке была ледяная. Едва до дому добралась, а наверх меня уже Натка поднимала, не помню как. Я в бреду была.
— Ты ей… рассказала? — обеспокоенно поинтересовался Николай Петрович.
— А что я ей могла рассказать? Что мне почудилось, будто моя первая любовь жива, и я на старости лет бросилась разыскивать то, что навсегда потеряла? Вряд ли бы она это поняла. Моет, в бреду я и сказала что-то такое. По крайней мере, Натка не подозревает, что вся эта история с моим безумным путешествием за призраком имеет какое-то отношение к тебе. Ведь ты, как я поняла, боишься, что она может про это догадаться. Верно?