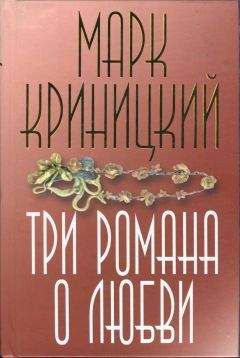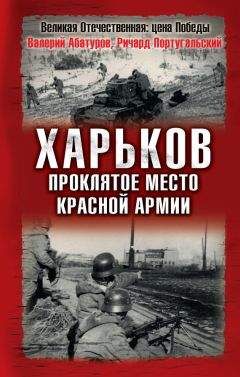— Поворачивай назад, — приказал Боржевский. — Что верно, то верно.
Ямщик тпрукнул. Упало сердце, и гудели ноги.
— Стойте! Где мы? — спросила Тоня.
Вдали виднелась, среди купы облетевшей листвы, каменная белая усадьба, точно вымершая. Заливались печальным лаем собаки.
Тоня привстала, потом вдруг выпрыгнула на подножку. Катя схватила ее за руку, но та выдернула руку.
— Пусти, стерва.
Она соскочила на землю и быстро пошла через дорогу по направлению к усадьбе.
— Господи Иисусе! С ума сошла.
Иван Андреевич тоже выскочил на дорогу. Тоня побежала. Белый капор ее упал на землю. Он поднял его и не своими, легкими, плохо слушавшимися ногами пошел за ней.
— Собаки загрызут, — визгливо кричала Катя.
Лошади нетерпеливо звякнули бубенцами.
Иван Андреевич старался догнать Тоню, но она убегала, смеясь и оглядываясь. Ее забавляло, что она легче его на бегу.
Вдруг она села на землю, поджав под себя ноги. Иван Андреевич, запыхавшись, подошел. Она подняла на него бледное от лунного света лицо. Глаза ее были неприятно неподвижны, и в них опять то же самое нехорошее.
Он нагнулся, чтобы ее поднять. Она с силой его оттолкнула, и рот ее искривился злобой, поразившей его судорогой.
— Убирайтесь!
Он в недоумении выпрямился. В большом отдалении на дороге чернела тройка. Катя продолжала что-то пронзительно кричать.
— Тоня, что с вами?
— Ничего. Сижу. Как видите.
Она презрительно усмехнулась краями губ.
— И долго вы будете сидеть? Ведь холодно.
— Долго.
Он понял, что девушка нарочно издевается над ним. Любопытно: что он сделал?
Он почувствовал боль.
— Тоня, зачем это вы?… Вы хотите, Тоня, меня обидеть.
Она кивнула головой.
— А зачем вам это нужно?
Она с нетерпеливым изумлением посмотрела на него.
— Чего вы скулите надо мной? Сказала: никуда не пойду, — и не пойду. Господи, какая вы телятина!
— А если я вас подниму?
Проснулось что-то нехорошее, звериное. Он нагнулся и с силой взял ее за талию.
— Уйди, — вскрикнула она истерически, вывернувшись, и в лице ее отразилась смесь отвращения и ненависти. — Слышишь?
Он сжал ей правую руку в кисти, так что она вскрикнула.
— Пусти!
Ее щека, к которой он прижался в борьбе, была холодная, и дыхание порывистое, злобное. Ему удалось поставить ее на ноги. Она продолжала извиваться в его руках, с каждым движением все больше и больше покоряясь его силе.
Одну ее руку он держал в своей, стараясь причинять ей боль, а другою она хотела схватить его за горло, но ей это не удавалось, так как мешал барашковый воротник пальто.
— Ну? — спросил он наконец, чувствуя ее всю в своей власти, и тотчас же ощутил, что она всем телом прижимается к нему. Он взглянул ей в лицо. Оно было неподвижно, и рот слегка раскрыт знакомым движением.
— Пустишь?
— Нет.
Ему хотелось сорвать с нее шубку и, без думы и торга с собою, ласкать ее гибкое, мучившее его тело.
— Что ж, так и будем стоять?
Она опять усмехнулась, но уже без иронии. Он отпустил ее, продолжая придерживать за талию.
— Какой сильный. Идем. А я думала, что вы теленок!
И, как ни в чем не бывало и мурлыча песню, она побежала назад, к дороге.
— Что-то наши голуби призатихли, — сказала Катя и отрывисто засмеялась, увидя, как Тоня покорно садилась в экипаж, а Иван Андреевич ее молча подсаживал.
— Куда? — отрывисто спросил Боржевский, с любопытством рассматривая обоих. — Что же вы не зашли погулять в усадьбу?
— Куда? Греться! — огрызнулась Тоня и затихла, откинувшись в угол сидения.
— Можно, — одобрил Боржевский.
Маленький, он сидел, глубоко спрятав голову в воротник, а руки в широкие рукава пальто. Его подслеповатые глазки с иронией изучали Ивана Андреевича. И Дурнев начинал его опять ненавидеть.
Ему казалось, что Боржевский решительно все опошляет взглядом своих глаз.
Конечно, он был ничтожество. Было бы смешно вообще считаться с его мнением. Но вовсе не считаться Иван Андреевич не мог. Его сила в человеческом взгляде даже пошлейших глаз. И оттого Ивану Андреевичу опять, как и тогда, в тот вечер в «доме», хотелось чем-нибудь обрезать Боржевского, поставить его на место.
Но сделать этого было нельзя, и он замкнулся в враждебное молчание.
Молчали и обе девушки. Только гудели колеса и звенели враз колокольцы лошадиной сбруи.
Иван Андреевич припомнил сцену борьбы, и ему было одновременно гадко и весело.
Вспомнились слова Прозоровского: женщину надо укрощать.
И показалось, что в этом все-таки есть своя, грубая правда. Может быть, если бы он употребил тогда над Лидой какое-нибудь насилие, почти физическое, дело пошло бы иначе.
Но теперь все было потеряно. Страшно-мучительно вспоминалось последнее посещение: ее письменный столик, девическая спаленка с обоями, с рисунком полумесяца.
Неужели все это кончилось?
Он раскрыл глаза, и от этого понял, что уже давно едет так, в позе спящего человека.
— Проснулись? — звонко сказала Катя, и звук ее голоса болезненно резанул его слух.
Она сидела напротив, закутанная в мишурную ротонду, и дотронулась кончиком калоши до его ноги.
— Нечего сказать, веселимся мы сегодня! Точь-в-точь похороны справляем.
Иван Андреевич хотел ей улыбнуться, но, вероятно, вместо улыбки у него вышла гримаса, потому что Катя ни с того ни с сего громко захохотала.
Ему стало страшно от ее слов, что они справляют чьи-то похороны.
«Вероятно, мои». Он снял шапку, чтобы воздух освежил темя. Кругом лежал холодный, посеребренный пейзаж, жуткий, ненужный и враждебный.
Ведь это уже конец. Не того ли хотела она сама? Она, т. е. Лида.
— Но она молода, неопытна, не знает жизни, — защищал кто-то Лиду.
Хорошо. Пусть так. Тем не менее она этого хотела.
— Она хотела не этого.
Да, т. е. она хотела бы, чтобы он обманул эту девушку, воспользовался ею. Вот и Боржевский того же хочет.
И опять он представил себе Лидию, холодную, презрительную и неумолимую.
Ну и хорошо.
Так ли?
Да, так, так… Пусть будет так.
Он сделал все до последней капельки. Ведь он не пьян нисколько. Может быть, он только болен. Болен тоской. Но ведь он же в этом не виноват.
— Пусть! Только скорее бы.
— Да, скучно, — сказал он вслух и опять сделал попытку улыбнуться.
— Вы не умеете смеяться, — говорила Катя. — Посмотрю я на вас: какой вы смешной. Я чтой-то таких и не видела. Ну, вот что, братцы, давайте опять споем. Папаша, вы подпевайте.
— Поди ты… Что они у тебя опять несут? — крикнул он ямщику, подбиравшему возжи.
— Не, мосток.
Лошади дробно зашагали по бревенчатому мостику.
Тоня громко гикнула.
— Га! Пошли!
— Ничего, не испугаются, — ямщик добродушно повернулся.
— Дай возжи, — потребовала она.
— Извольте.
Тоня встала с места, и, навалившись на Боржевского грудью, стала собирать концы возжей. Лошади остановились. Боржевский пересел на ее место. Экипаж двинулся неровно к краю дороги.
— Осторожней! Тонька! — взвизгнула Катя.
Тоня спорила с ямщиком. Лошади дернули еще раз, потом с силой взяли и понесли. Коренник храпел.
— Не так, барышня, не так, — говорил ямщик. — Да вы упадете. Вот бешеная, прости ты мое согрешение. Уйдите вы!
Он толкнул ее на сидение. Она со смехом упала, придясь головою на колени Боржевскому.
И тотчас же, лежа в неудобной позе, запела, делая нарочно не на месте паузы:
Го-сподин ка-питан
Рад, что вас увидал.
Вашей роты подпоручик,
Дочь мою обидел.
Катя вступила в песню, и их визгливые, нарочно неприятные голоса врезались в лунное молчание ночи.
Он увез, он увез,
Дочь мою родную,
И всю ночь ездил он
С ней напропалую.
— А вот и наши… Выбираются, — сказала Катя.
Действительно, это выросло жилье «Дьячихи». Кричали издали чьи-то дикие, безобразные голоса. Должно быть, Бровкин и его дамы.
— Паскрей! Паскрей! — кричала немка.
Они стояли на крыльце уже одетые. Немка махала рукой.
Подкатили к крыльцу. Во время общей суматохи, возни и гама Боржевский потянул Ивана Андреевича за рукав.
— Отойдемте в сторонку, — попросил он все с тою же иронической усмешкой.
Иван Андреевич пошел за ним.
— Вы напрасно увлекаетесь этой девчонкой, — сказал Боржевский, продолжая снисходительно-гадко усмехаться. — Она, извините за выражение, известная стерва. Ее надо лупить смертным боем. В полном смысле этого слова — падшее создание.
— Вы, кажется, собираетесь опять взять меня под опеку? — спросил, задыхаясь, Иван Андреевич. — Я бы просил избавить меня от этой опеки.