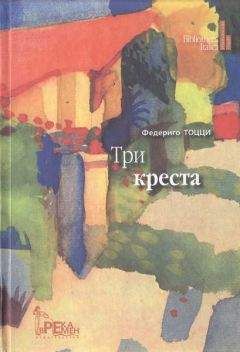Он думал при этом, что батраки будут в восторге, что он полюбил крестьянку, одну из них.
Они с Гизолой пошли проселочной дорогой, ведущей к той самой черешне, под которой они когда-то давным-давно разговаривали. Казалось, воспоминания так и застыли там, под ветками.
Гизола нервничала и готова была отдаться. Ей хотелось сказать ему: «Да что ж ты не видишь?» Но Пьетро чем дальше, тем больше охватывал восторг. Ему казалось, он идет, как во сне.
— Почему ты не смотришь на меня все время? — повторял он.
И правда, она оборачивалась к нему лишь мельком и охотно бросила бы его там одного. Но овладев собой, как тогда, на ограде, она что-то ответила в тон ему и остановилась, глядя в небо. Он поверил и воскликнул:
— Такой ночи мы никогда больше не увидим! Звезды сияют даже в твоих глазах. Я их вижу!
И припал к ней в долгом поцелуе. Она тряхнула головой, отстраняясь. Он с ума сошел? Но он не отпускал ее, кричал от радости. Гизола, сама не своя от желания, была как амфора, готовая развалиться по трещине. Не выдержав, она сказала:
— Был бы ты мужчиной!
Пьетро отвечал, будто сам себе:
— Я люблю тебя!
Но его восторг тоже становился чувственным, и поэтому он повернул назад: Гизола не должна была этого заметить!
Маза поджидала их в начале дороги, руки в боки, встревоженная веселыми намеками рассевшихся вокруг гумна батраков. Джакко засел дома, сердясь, что приходится жечь допоздна масляную лампу, в которую билась бабочка с толстым, в палец, тельцем. Хлопанье и трепыханье ее крыльев заставляли его время от времени поднимать голову и поглядывать за дверь.
У самого гумна Пьетро и Гизола расплели руки. Маза шепнула:
— Далеко не ходите.
Тем временем батраки угомонились — отчасти из чувства приличия перед молодым хозяином. В лунном свете их лица казались размытыми пятнами.
Жердь в стогу так и осталась стоять, покосившись в сторону липы.
Весело жили в Поджо-а-Мели!
Выйдя за ворота, молодые люди снова взялись за руки.
Светлячки, липкие на ощупь, будто резиновые, кишели в бледных кронах несчетными роями, и их все прибывало.
Укрывшись в тени забора, они стали целоваться: она — прислонившись спиной к деревянному штакетнику, он — прижавшись к ней. Вдруг Пьетро заметил, что Гизола слишком сладострастно двигает бедрами — он отстранился и упрекнул ее.
Тут Маза, которая стояла посреди гумна и, прикусив язык, чтобы не отвечать, слушала поневоле шуточки батраков, вконец потеряла терпение и окликнула их. Пьетро и Гизола направились к дому.
Кое-кто из батраков в безудержном веселье крепко чесал затылок. Карло, который стоял чуть наклонившись, уперев руки в колени, то и дело, взглянув на Мазу, разражался издевательским хохотом. То, до чего он недавно дотронулся, словно по-прежнему лежало в руке.
Больше месяца потом не утихали пересуды.
Карло какое-то время еще следил за ними из дверей, когда они разойдутся — ему не верилось, что он пойдет спать, не поговорив с Гизолой.
Но Гизола позвала дочь одного из батраков проводить вместе с нею Пьетро до предместья — чтобы потом не идти назад одной.
Шли они под ручку. Вторая девушка держалась в стороне, не решаясь подойти ближе. Но оглядываясь, они видели, что она улыбается — взволнованно и настороженно, под конец почти судорожно.
Прежде чем расстаться, они еще раз поцеловались. Тогда девушка, которая, закрыв лицо обеими руками, подглядывала сквозь пальцы, повалилась на землю посреди дороги и стала кататься в пыли. Потом завопила, будто никого рядом не было:
— Ой, ой, что ж я делаю!
— Оденься.
Застав ее в комнате с голыми руками, он не стал ее целовать, пока она снова не надела розовый жакет. Потом сказал:
— Так ты мне больше нравишься. Иначе я б не смог тебя поцеловать. Сама знаешь!
Она должна была ехать дилижансом в Радду.
Дело их не продвинулось нисколько: Доменико, уверенный, что время работает на него, с полным самообладанием делал вид, что не интересуется ни Пьетро, ни Гизолой. Кривотолки так и не были опровергнуты, и Пьетро не нашел способа ускорить свадьбу.
Маза металась — то в дом, то из дома — посматривая одним глазком на них, а другим во двор — не собрались ли любопытные. Злые языки пугали ее больше прежнего, и она не могла дождаться, когда Гизола уедет — лишь бы не сердить хозяина.
В самых смелых мечтах ей не представлялось, что Пьетро женится на ее внучке — такая честь была не по ней! Она даже Бога благодарить не смела, чтобы не покарал се за незаслуженное счастье — к тому же, сперва ей хотелось в нем убедиться! И не раз она говорила:
— Нельзя просить у Бога того, чего мы недостойны.
Пьетро протянул Гизоле гребень, потом застегнул ей на спине жакет. Когда он покончил с последней пуговицей, она повернулась и снова подставила ему губы.
Времени оставалось еще много, и Гизола улеглась на кровати, где спала еще девочкой. Лицо застыло, на нем проступила какая-то угрюмая тоска. Она больше не позволяла Пьетро ни трогать себя, ни целовать, упорно молчала и хмуро глядела в сторону, насупив брови и надув в раздражении губы.
— Что с тобой? — спросила Маза. — Ты не больна?
Она запрокинула голову, будто шея тоже онемела. Пьетро взял се руки в свои:
— Ничего. Пройдет. Что с тобой? Не трогайте ее, Маза.
Гизола смотрела на них поочередно, переводя взгляд с одного на другую. Пьетро поцеловал ей кончики ног, и она убрала их под юбку. Ей так не хотелось уезжать? Но то же самое бывало и раньше, когда он довольствовался тем, что вместо нее трогал что-нибудь из ее вещей: ленту, булавку и еще серебряный браслет. Невозможно было представить, чтобы она с кем-нибудь поменялась хоть одной из своих безделушек!
Гизоле не хотелось шевелиться, она думала, что пролежит так сколько угодно, хоть всю жизнь.
От того, что рядом суетились Пьетро и Маза, ее пробирала дрожь. Хотелось пнуть их как следует.
Когда Пьетро наконец уговорил ее подняться, объясняя, что иначе она не успеет на дилижанс, к ней вдруг вернулось горячее желание быть милой и ласковой, и губы изогнулись в приятной, хотя и капризной улыбке.
Пока она шла туда, где должен был проехать дилижанс, то мало-помалу успокоилась. Ноги у нее подгибались, а зонтик от солнца при каждом шаге колотил по коленке. Повиснув на Мазе и Пьетро, она казалась совсем еще девочкой.
Маза все думала о батраках и о том, что дом остался не заперт, и то и дело оборачивалась, поджимая губы.
Дилижанс запаздывал. Тогда старушка, сложив руки на животе, ушла, бросив напоследок:
— Будем надеяться, все обойдется!
Гизола с ней даже не попрощалась. Лишь отодвинулась от Пьетро, не сводившего с нее глаз.
В окнах Палаццо-дей-Дьяволи не было никого. По дороге туда он видел гумно какого-то крестьянина, все заставленное снопами пшеницы. Казалось, с крыши дома льет солнечный свет и расходится по земле огненными кругами.
Но оттуда, где они стояли, видно было Вико Белло на вершине холма, все поросшее деревьями и обнесенное стеной. По всему холму зеленела кукуруза, а оливы казались бесцветными и прозрачными. Тень на виноградных шпалерах делала их толще.
На ступени Капеллы, в тени которой они стояли, уселся нищий. Они одновременно показали на него друг другу и улыбнулись совпадению. В обеих руках он сжимал краюху хлеба, и они ждали, когда он примется его есть.
Подкатил дилижанс. Там сидели женщина и небритый крестьянин с осунувшимся лицом — больной, которого жена забрала из больницы. С собой у него был красный платок, где лежала куча лекарств. У жены на коленях лежала мышиного цвета шаль, приготовленная ему на вечер. Глаза у мужчины были тусклые и выглядел он как-то напряженно — будто был недоволен, что дилижанс остановился и теперь их побеспокоят.
Опущенные от солнца шторки колыхались.
Конь резко встал, присев на задние ноги. Он был длинный и худой, с высоко посаженной головой и здоровенными челюстями, как часто бывает у этой породы. Бока, перехваченные упряжью с блестящими латунными пряжками, вздымались и опускались. Между морщинистых губ торчал застрявший под мундштуком стебелек овса. Он стоял, опираясь на оглобли. От него несло потом.
Пьетро открыл дверцу экипажа, на которой был нарисован почтовый герб. Гизола забралась туда, понурив голову. Потом подставила губы для поцелуя, и Пьетро ее поцеловал, хотя явно хотел сказать: «Ну не здесь же!» Она улыбнулась над этим про себя — и дилижанс тронулся.
Она бросила взгляд на сидевшую напротив пару, как будто впервые их заметив — и опять опустила голову и побледнела, пронзенная предчувствием скорого материнства.
Пьетро, в почти смертельной тоске, все ждал, что она обернется, и так и не дождался.
Ближе к сентябрю он приехал к ней в Радду.
Россыпь ее домиков — на холме за лесом — начинает маячить еще на подъезде, за много километров и там так тихо, что когда говорят в доме, слышно на улице.