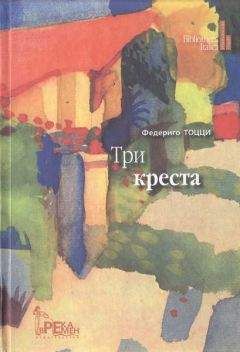А по окраинам мостятся среди домов оливы и кипарисы, будто забрели из нолей и не желают возвращаться.
Но Пьетро все чудилось, что за ним гонится отец, хоть он и успокоился немного, увидев колокольню Джотто, собор Санта-Мария-дель-Фьоре, знакомые улицы, по которым он прошел с чувством потерянности, становившимся все острее. Ему хотелось еще раз поговорить с кем-нибудь из товарищей, объяснить, что произошло недоразумение, что он пропал из виду по причине, о которой упоминать не может, как бы ни было ему неприятно скрытничать — даже теперь, когда он чувствовал упоительную потребность держать что-то при себе, и это «что-то» было, пожалуй, все равно, что его душа.
У входа на мост Понте-алле-Грацие под зеленым зонтом с деревянными спицами сидел продавец лимонов. Несколько носильщиков и каких-то невнятных персонажей дремали, прислонившись к стенке запруды.
От деревьев у Сан Миниато в сторону Кашине искоркой пролетел жаворонок.
Шагая в сторону прохладной, свежеполитой площади Пьяцца-Делла-Синьория, он начал замечать людей: больше всего их было на улице Кальцайоли и на Соборной площади. В конце улицы Кавур виднелся холм Фьезоле — высокий и зеленый.
Сойдя с трамвая возле монастыря, Пьетро покраснел, хотя никого рядом не было. Попытался заглянуть под жалюзи, не смотрит ли кто на улицу — лишь горшки с пыльными геранями.
Дверь открыла сама Гизола, но внутрь не пустила. Он тут же посетовал, что она до сих пор не уехала в Радду, она же ответила, что ждала его и хотела сперва убедиться, что родители примут ее назад.
Необъяснимым образом ему казалось, что они вместе уже очень давно.
— А почему нет? Они тебя обижают?
— Мне у них не нравится.
Его зацепило, что она ответила именно так, а не иначе. Он ласково коснулся ее и сказал просительно:
— Не отказывай мне. Ты должна ждать дома. Мне это будет приятно.
И подумал: «Зачем я ее об этом прошу?»
— Ну, раз ты так хочешь…
Увидев, что она поддается, он предложил:
— Тогда поехали со мной в Сиену.
Гизола улыбнулась и приложила палец к губам.
Он был уверен, что она подчинится ему с нежной покорностью, но Гизола, которой больше всего хотелось подурачиться, спросила:
— Я тебе разонравилась?
— Почему ты должна мне разонравиться?
И он нежно погладил ее по лицу — она отстранилась и бросила взгляд на кончики его пальцев.
— Ну что ты? Я жду тебя на улице, у монастыря.
— Хорошо. А теперь уходи.
Он поцеловал ей обе руки, сложив их вместе, она же тем временем все пятилась и, казалось, еще немного — захлопнет дверь у него перед носом.
Спускаясь по ступенькам, он думал: «Она много выстрадала. Ее мучает, что ей приходится жить в чужом доме. Родители, наверное, перестали ей писать, родственники — завидовали. Она стала как будто чувственней, чем раньше, но я должен обращаться с ней с прежним уважением и даже с большим — иначе потом я ее возненавижу».
От его внимания при этом ускользнуло, что она готова уехать вот так внезапно, сразу же после их разговора.
Синьор Альберто оказался втянут в процесс банкротства и уже дней пятнадцать не показывался ни к кому, даже к ней, и она сама изредка забегала на часок его проведать к одному из его адвокатов, у которого он сидел теперь безвылазно. Он просил ее вернуться в Радду — лишь до окончания процесса, хотя бы для того, чтобы родственники жены, выступавшие на процессе свидетелями, не подливали масла в огонь.
Денег он ей больше не давал, и Гизоле то и дело приходилось перебиваться на хлебе да каких-нибудь фруктах. Но податься ей было некуда, возвращаться домой она не хотела и тянула время, не зная, на что решиться.
Так что, когда появился Пьетро, ей только и оставалось, что передать через Беатриче привет своему другу и попросить не забывать ее.
И все-таки она бы так и не вспомнила, что Пьетро ее ждет, если бы не Беатриче — которой хозяин, очевидно, и за этим поручил проследить.
Женщина обняла ее, всплакнув — с нежностью, заставившей ее улыбнуться сквозь слезы.
Пьетро стоял поодаль от дверей и всякий раз, заслышав шаги, надеялся, что это Гизола. Наконец показалась и она.
Как два уважающих друг друга противника, они не обменялись ни словом. Он ловил ее взгляд, но тот блуждал по сторонам — она упорно смотрела мимо него, но словно все равно его видела. Все же им пришлось обменяться парой слов, и от этого напряженность как будто спала.
Остановился трамвай, они сели.
На ней была соломенная шляпка, украшенная одной лишь ленточкой из черного бархата, светлая вуалетка, белые нитяные перчатки. Пьетро отметил эти потуги на элегантность и, растроганный, коснулся ее руки. Конечно, когда они поженятся, он оденет ее куда лучше. Но все смотрели на Гизолу, и он был за нее очень рад.
С Соборной площади они быстрым шагом направились на вокзал, до отхода поезда оставалось совсем немного. Пробираясь сквозь толпу, они поневоле то и дело вспоминали о себе и о своем решении, и всякий раз чуть вздрагивали. И ловили взгляд друг друга. Но все равно они сели в поезд до Сиены — так и не обменявшись практически ни единым словом. Лишь когда их купе опустело, он спросил:
— Почему бы тебе не поднять вуалетку?
И тихо добавил:
— Мне будет лучше тебя видно.
Она послушалась, и они сели друг напротив друга.
— Если хочешь отдохнуть, я пересяду к тебе. Хочешь положить голову мне на плечо?
— Какая разница.
Они чувствовали, что взгляды их, как и души, сцепились вместе, и точно отяжелели.
Поля за окном мчались, мчались во весь опор! Пьетро казалось, они бегут от него, больше не желают его понимать — не одобряют. И тем сильней становилась необходимость любить Гизолу.
Но день угасал, и его взвинченность тоже. Утром, в ярком солнечном свете ему казалось, вагоны вот-вот вспыхнут и запылают; теперь же на каждой станции чудилось, будто они боятся навсегда остаться на соседних путях — прямых, кривых и скрещенных — которые излучали печальный мертвенный свет и несли его с собой во тьму выцветающих далей. Все вокруг менялось в такт его настроению, но при этом было чужим.
В Поджибонси их обогнал другой поезд — удаляясь, он становился все короче, пока от него не остался лишь торец заднего вагона, так что уже непонятно было, стоит он или уходит — будто обман зрения. Вагоны, увлекаемые паровозом, поднимались и опускались, колеса катили друг за другом в унисон по одним и тем же рельсам, товарные вагоны, опломбированные, терпеливые, были выкрашены красной краской, а поверх нее белые цифры — глядя на все это, он чуть не расплакался. Все они выворачивали ему душу, давили ее всмятку!
Он почувствовал себя одиноким и всеми покинутым, и совсем забыл о сидящей напротив Гизоле, которая разглядывала его с острым любопытством, от чего ее взгляд приобрел колдовскую неподвижность.
Когда Пьетро, вздохнув, вдруг встретился с ней глазами, то воскликнул:
— Сегодня ты больше меня любишь!
Она глянула на него презрительно, но поспешно опустила ресницы, пряча глаза: этот взгляд будто вырвали у нее из души.
Молодой человек ничего не понял, и теперь ждал, чтобы она что-нибудь сказала.
Тогда Гизола усадила его рядом, и они взялись за руки.
Люди входили и выходили, на станциях горели огни, еще пуще нагоняя на нее тоску.
Приехав в Сиену, она наотрез отказалась идти к тете.
— Да почему же?
— Она слишком много захочет знать: я никому ничего про себя не рассказываю.
Она-то могла жить так, как хочет! Он посмотрел на нее, такую сильную и независимую. Но чтобы убедиться, что она ничего не пытается скрыть, сказал:
— Зря ты так: все-таки она твоя тетя.
— Может мне пойти в гостиницу?
— Если тебя увидят одну, то могут подумать плохое.
— А ты-то разве не знаешь, что я только твоя?
И затянула детским голоском, хлопая его кокетливо по руке веером:
— Ну, пожалуйста. Ты все время все делаешь по-своему. Ведь правда, сегодня ты порадуешь свою Гизолу?
Идти до трактира было недалеко, уже темнело — пора было что-то решать.
За базиликой святого Франциска показалась вереница низких облаков — как пожар.
Кто-то замедлял шаг, всматриваясь им в лица, и тогда они прибавляли ходу.
По левую руку открылся вид на город — ту часть, где расположена церковь Мадонна-ди-Провенцано. Все дома стояли слишком тесно.
Оба умолкли и сами того не заметили. Крыши широкими уступами поднимались к старинному зданию Палаццо Салимбени, громаду которого накрывала черная тень гигантской ели. Где-то за ним невесть откуда торчала макушка Торре-дель-Манджа, а чуть в стороне над плоским морем крыш поднимался купол Мадонна-ди-Провенцано. На трех улицах, сплетавшихся узлом у ворот Порта Овиле, крыши, наоборот, шли вниз, наклонившись все в одну сторону, словно дома никак не держались прямо. Кусочек одной из улиц напоминал каменистую расселину. Там неподвижно застыла женщина — точно не в силах выбраться.