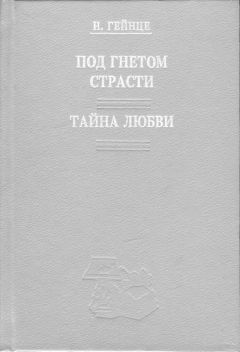— Ничего, пустяки, я посчитался с моей красавицей…
Однажды после такой сцены он явился в портерную с окровавленным лицом.
Все расхохотались.
Его раздразнили насмешки, он вернулся домой и избил Фанню чуть не до смерти.
Ее насилу отняли у него, посадили на извозчика и отправили в первый ближайший дом, где отдавались меблированные комнаты.
Она сразу излечилась от своей глупой собачьей привязанности.
Когда на другой день она проснулась разбитая и вся в синяках, она изумилась сама, как у нее хватало сил выносить такую подлую жизнь, и почувствовала страшное отвращение к человеку, у которого хватало духу так ее колотить.
У нее оказались кое-какие деньжонки; она просидела несколько дней, никуда не показываясь, пока не прошли на лице синяки. Тогда она оделась, как можно аккуратнее, и пошла к одной знакомой актрисе опереточного театра, с которой когда-то столкнулась в компании, кутившей в ресторане.
Это еще было до знакомства со Свирским, и актриса уговаривала посещать ее, обещая устроить ей судьбу.
Актриса эта переживала уже свою тридцать пятую весну и жила на содержании у одного женатого старца, который утешался зрелыми прелестями содержанки, пресыщенный свежестью своей жены.
Он был всего года два как женат на третьей.
Актриса помыкала им как мальчишкой, покрикивала на него, как на лакея, и тем все более и более привязывала к себе…
Такова подлая натура мужчины.
Когда Фанни Викторовна явилась к Стефании Егоровне Чернской, таковы были имя, отчество и фамилия бывшей опереточной актрисы, жившей, по выражению буфетчицы Мани, в свое удовольствие, она застала ее валявшеюся на диване.
Перед ней стояла горничная, рассматривавшая ее руку и предсказывавшая ей всевозможные радости жизни.
Фанни Викторовна прервала этот интересный сеанс хиромантии и в нескольких словах объяснила Стефании Егоровне свое положение.
— Вы попали ко мне очень удачно, — сказала актриса, — у меня сегодня кое-кто соберется, будет очень весело, вот увидите. Много будет богатой молодежи, и я могу вас с кем-нибудь познакомить…
— Я буду вам очень благодарна…
— За что тут, не за что… Мы, женщины, обязаны помогать друг другу. Я рада, что, наконец, вы взялись за ум. Видите, я очень счастлива… Правда, мой содержатель — урод, но я и держу его в черном теле и не очень балую… Вы также выберите себе женатого или совсем юного мальчишку… Не играйте только в любовь — это нам совсем не к лицу.
Вечер вышел действительно очень оживленный.
Содержатель Стеафании Егоровны явился первый, а за ним принесли корзины с вином и всевозможными закусками.
Жуирующий коммерсант был большой шутник и весельчак. С виду он был очень благообразен, высок, плотен, с начинавшей уже сильно седеть окладистой бородой и солидных размеров брюшком, и если бы не особенность его физиономии, на которой нос ярко-красного цвета резко выделялся от остального цвета лица, его можно было назвать еще бравым мужчиной.
Он начал угощать Фанни привезенными им с собой конфетками, причем объяснил ей, что хотя он и женат, но все его счастье заключается в Стефании, и заключил свою откровенность предисловием, что он обожает женщин и что его величайшее удовольствие ужинать в веселой компании с прелестными женщинами.
Начались звонки.
Приглашенные не запоздали.
Тут были и молодящиеся старики с игривой усмешкой на беззубых устах, и солидные люди в модных воротничках, в коротких сюртучках и широких панталонах, набеленные женщины с разрисованными лицами, и молодые, с хриплыми голосами, с выпуклыми и плоскими грудями, даже мальчишки, чуть ли не со школьной скамьи.
Все это общество толпилось в небольшой зале и гостиной уютной квартиры Чернской в Кирпичном переулке.
Маленькая неловкость первой минуты скоро рассеялась, женщины оправились, толстый коммерсант громко смеялся, Стефания Егоровна разыгрывала очень важно роль хозяйки дома; горничная фамильярничала с девицами, разнося в изобилии глинтвейн и все мало-помалу развернулись.
Женщины еще несколько церемонились.
Люди опытные дожидались ужина.
Кто-то предложил потанцевать.
Кадриль прошла очень прилично, но мало-помалу пары увлеклись, содержатель Стефании не в состоянии был долго сдерживать свой нрав и принялся откалывать разные двусмысленные шуточки, и, наконец, все оживились.
Перед ужином старички расстегнули жилеты, помахивали фалдочками и, заложив руки за проймы жилеток, обливались потом, свистали, пристукивали и веселились от души.
Горничная, наконец, растворила дверь в столовую.
Все бросились туда, расселись, как желали, парочками, и принялись за предложенные яства.
Гости были веселы, амфитрион тоже.
Он то и дело приказывал подавать шампанское и целовал поблекшими устами ручки своих соседок.
Этим он подал пример другим.
Пары уселись теснее.
Фанни Викторовна сидела возле одного молодого человека, который разговаривал только о скачках и о своих выигрышах на тотализаторе.
Когда же этот предмет разговора истощился, он ей сказал несколько пошлых комплиментов, на которые она отвечала лишь улыбкой, решивши порасспросить о нем у Стефании Егоровны.
Она выбрала минуту, когда хозяйка обходила гостей, и спросила ее на ухо относительно своего соседа.
— Ах, это ужасно богатый дурак, — также шепотом отвечала Чернская, — хорошо бы вам его подцепить, будьте с ним любезны, но не позволяйте ему забыться, с такими болванами это самая лучшая система.
Встали из-за стола и пошли в гостиную пить кофе с ликерами.
Все как-то раскисли.
Старички засели в кресла и не шевелились.
Они дремали и сопели.
Молодые закурили сигары.
Некоторые сильно побледнели и спешили скрыться, другие уселись возле своих дам и принялись шалить и возиться.
Кавалер Фанни вздумал ее поцеловать, но она резко осадила его.
Он несколько опешил, но утешился тем, что в таком обществе он нашел женщину, которая умела себя держать, и не бросилась на шею с первого раза.
— Вы у меня ночуете? — спросила Стефания Егоровна.
— Если я вас не стесняю… — отвечала Фанни Викторовна, взглядом указывая на дремавшего на кресле амфитрона.
— Нисколько… Я его выпровожу…
* * *
Неделю спустя после этого вечера Фанни Викторовна Геркулесова была уже обладательницей квартиры на Кирочной улице, убранной с известным пошлым шиком.
Как бы в отместку за то, что она когда-то ела руками, теперь она не хотела есть иначе, как на серебре, она не забыла потребовать самую дорогую мебель, бронзу, громадные зеркала в золоченых рамах, словом заставляла себя окружить показной роскошью.
Молодой и действительно глупый богач не жаловался на издержки, он был счастлив, когда его содержанка производила фурор на набережной своими великолепными и бросающимися в глаза туалетами, и он слышал, как про него говорили:
— Он положительно разоряется.
Мысль, что он способен проесть свое состояние, восхищала его.
Фанни Викторовну возмущала его глупость.
Когда он приводил целую толпу таких же, как он шалопаев, расчесанных, раздушенных и распомаженных, и они, растянувшись на диванах, важно, с идиотским восторгом обсуждали статьи лошадей, она бешено ломала себе руки.
Правда, случалось, он приводил к ней людей серьезных, но такие были всегда навеселе.
Они брали ее за подбородок и таинственно шептали:
— Вы, конечно, знаете, милочка, что завтра биржа будет решительная, до сих пор все колебалось, благодаря неустойчивости брянских…
— О я ничего не знаю… И смотря на вас, на богатых людей, я прихожу к убеждению, что создана любить оборванцев…
Ее содержатель нашел, что она дурно воспитана, но приписал эту выходку лишнему бокалу шампанского.
Фанни также упрекнула себя в глупости и с тех пор не произносила ни слова.
Ее содержатель был ей противен с первого же дня знакомства.
Обыкновенно он являлся часа в два с сигарой в зубах.
Он болтал о лошади, которую рассчитывал пустить на бег, о проигрыше в клубе, о какой-нибудь городской совсем для нее не интересной сплетни.
Она молчала, ожидала хоть какой-нибудь ласки или нежного внимания, в котором не отказывает женщине даже самый отъявленный негодяй.
Она так и не дождалась от него никаких выражений симпатии, не говоря уже о любви.
Невольно, почти с ненавистью смотрела на него Фанни Викторовна, сравнивая его со Свирским.
Какая разница была между этими двумя людьми.
Сколько в том было нежности, предупредительности в мелочах. Иногда они с вечера были оба не в духе, но тотчас все незаметно исчезало, и царила любовь, всецело поглощавшая их существа.