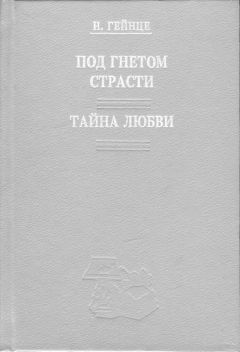Она так и не дождалась от него никаких выражений симпатии, не говоря уже о любви.
Невольно, почти с ненавистью смотрела на него Фанни Викторовна, сравнивая его со Свирским.
Какая разница была между этими двумя людьми.
Сколько в том было нежности, предупредительности в мелочах. Иногда они с вечера были оба не в духе, но тотчас все незаметно исчезало, и царила любовь, всецело поглощавшая их существа.
Эти незабвенные воспоминания порой так сильно овладевали ею, что она с бешенством отталкивала от себя своего властелина и, скрипя зубами, кричала, чтобы он убирался вон, что она устала и хочет спать.
Ненависть ее к нему возрастала прогрессивно.
Она с трудом удерживалась от дикого желания задушить собственными руками этого идиота или же, по крайней мере, избить его так, как она бивала Аристархова.
Она до такой степени тяготилась этим человеком, что у нее пропала даже охота разорять его.
Она по целым дням лежала на диване, курила папиросу за папиросой и пила ликеры и коньяк, к которым пристрастилась.
Убитая и опечаленная, она не жила, а прозябала.
Это уединение, это отсутствие общества, хотя бы ей подобных, эта сонливость должна была окончиться так же плачевно, как это было некогда у Свирского.
Она пила все более и более, и когда алкоголь затуманивал ее бедную голову, ей представлялась квартирка Леонида Михайловича.
Этот человек, которого она когда-то так терзала, мстил ей теперь, вызывая воспоминания о его неизмеримой доброте.
Фанни Викторовна пила, чтобы забыться, чтобы навек изгладить из памяти милый образ, но, наконец, ее желудок не выдержал — она заболела воспалением брюшины.
Она должна была прекратить это безумство, когда после нескольких недель, проведенных в постели, окруженная если не лучшими, то самыми дорогими докторами, она выздоровела.
Однажды вечером, страдающая сильнее, чем когда-либо, раздраженная, нервная, она проворно оделась, вышла из дому, села на первого попавшегося ей извозчика и поехала к своему бывшему возлюбленному.
Она это сделала как-то машинально, бессознательно.
Свежий воздух привел ее в себя.
Было десять часов вечера, она было уже хотела крикнуть вознице ехать назад.
— В самом деле, она, должно быть, сошла с ума, — думалось ей, — если она решилась ехать к Леониду.
— Да еще живет ли он там, дома ли, а самое ужасное было то, если она встретит там другую?
— Да и как он ее примет?
Если бы она вернулась к нему на другой день их встречи у Аристархова, нет сомнения, что он не только не оскорбил бы ее, но в конце концов принял бы ее с распростертыми объятиями.
Теперь, конечно, его бешенство прошло, гнев утих, но если вместе с тем изгладилось и всякое чувство к ней.
Ведь он просто-напросто может попросить ее уйти.
Молодая девушка еще колебалась, когда извозчик, проехав Пушкинскую, выехал на Коломенскую улицу.
Фанни Викторовна махнула рукой, указала извозчику ворота, где остановиться, расплатилась и быстро вышла, как бы не давая себе времени опомниться, взошла на лестницу и, задыхаясь, позвонила у его дверей.
Раздавшийся звонок, слышанный с лестницы, заставил ее вздрогнуть.
Несколько минут ожидания показались ей целой вечностью.
Наконец за дверью раздались торопливые шаги. Она узнала в них каким-то чутьем шаги Леонида и вся как-то съежилась.
Она даже схватилась рукою за косяк двери, чтобы не упасть.
Дверь отворилась, и Леонид Михайлович Свирский очутился лицом к лицу с Фанни Викторовной Геркулесовой.
Леонид Михайлович смущенный глядел на свою неожиданную гостью.
— Как? Это ты? — невольно вырвалось у него.
— Да, знаешь, я ехала мимо, хотела узнать о твоем здоровье… Ты здоров?
— Да, но…
Она зажала ему рот рукой и торопливо заговорила, после того как он машинально запер дверь, а она сбросила свою тальму.
— Молчи, молчи, не будем говорить о прошлом. Я не для этого приехала к тебе. Поговорим лучше о другом… Много ли ты работаешь?.. Нашел ли место? Веселишься ли?
Она положительно засыпала его вопросами, а между тем он рассеянно слушал ее и с беспокойством глядел на видневшуюся из первой комнаты входную дверь.
Она заметила, наконец, этот взгляд.
— А, ты ждешь кого-то! — упавшим голосом сказала она. — Как я раньше не догадалась… В таком случае я ухожу… Что она блондинка или брюнетка?
— Блондинка… и, главное, порядочная…
— Порядочная… — с иронически злобным смехом повторила она. — Так стало быть и порядочные ходят по вечерам одни к мужчинам! Милый мой, она такая же, как все мы, может только поприличнее нас и больше гримасничает при свиданиях! Слушай, я хочу ее видеть, я сорву с нее личину скромности, ты увидишь, как облупится с нее эта порядочность… Но, Боже, какие я говорю глупости, что мне за дело порядочная она или нет.
В эту минуту тихо брякнул звонок.
Свирский вскочил.
Фанни Викторовна, как бы обезумев, схватила его и обвила своими руками.
Он старался освободиться, но ее глаза зажглись бешеным огнем, ее губы пылали, и она, вся трепещущая от охватившего ее волнения, не пускала его к. двери.
Звонок звякнул второй раз, несколько сильнее.
Он сделал вновь порывистое движение, чтобы освободиться от висевшей у него на шее женщины.
— Я люблю тебя… — страстно шептала она, — не отворяй, не отворяй, не смей отворять, иначе я подерусь с ней…
Леонид Михайлович уступил, он был взбешен насилием.
До чуткого слуха их обоих донеслись сбегавшие вниз по лестнице легкие шаги.
Звонок больше не повторялся.
Фанни выпустила из объятий Леонида Михайловича и села на стул.
Он также машинально опустился на стул около нее.
Они так порядочно времени сидели и молча глядели друг на друга.
Она не выдержала первая, вскочила и стремительно уселась к нему на колени и обняла его.
Он безучастно принимал ее ласки.
Ее возмущало бессилие этих ласк.
Она соскользнула с его колен и стала быстрой, взволнованной походкой ходить по комнате.
— О все мы одинаковы! — вдруг после продолжительной паузы заговорила она. — И еще хотят, чтобы их любили! Люди, которые смотрят на нас, как на яичную скорлупу. Да, так принято, повозиться с женщиною, мы ведь на это только и годимся; нет, по сущей правде, мы достойны сожаления за то, что обречены жить с такими существами; когда мы надоедим, нас очень просто выгоняют: ступай, матушка, ищи другого! И еще нас обвиняют в нечестности! Боже, да ведь это борьба, ведь понимаешь ты, что тут кто сильнее, тот и одолевает! Помнишь, ты мне рассказывал о какой-то женщине, не помню как ее звали, я ведь неученая, только она была не живая, а статуя. Ты мне говорил, что она ожила от поцелуев того, кто ее сделал; теперь наоборот, мы превращаемся в мрамор, когда нас поцелуют! Боже, Боже, если бы ты знал, как я устала от этой жизни! Слушай, я солгала, я не случайно пришла к тебе, я хотела поласкать тебя, я жаждала ласк сама, положим это глупо, может быть, но бывают дни, когда богатые люди для нас невыносимы и, наконец, естественное дело, кто нас кормит, того мы ненавидим.
Он ее не слушал.
Она с ужасом заметила это.
Тогда она решила во что бы то ни стало увлечь его.
Она снова уселась к нему на колени, охватила его голову своими дрожащими руками и вдруг горячо, страстно поцеловала его.
Он не выдержал и порывисто прижал ее к себе.
Улыбка самодовольства скользнула по ее губам.
Она подумала, что она победила.
Но увы, это была лишь временная вспышка.
В эту ночь он спал скверно, встал очень рано, сел на стул в спальне и смотрел на спящую девушку.
Нет, решительно он был равнодушен к ней. Она опротивела ему с тех пор, как он узнал ее жизнь, но как было устоять от огня ее глаз и сладости поцелуев.
Фанни Викторовна повернулась, улыбаясь во сне, подняла голову, вытянула шею, сорочка спустилась с плеча и открыла белое, блестящее, как атлас, тело.
Он смотрел на нее, удивляясь, что женщина, которую он не особенно давно обожал, не возбуждала его больше.
Он чувствовал только стыд, что-то вроде презрения к себе за то, что поддался еще раз очарованию ее ласк, конечно, также щедро расточаемых и другим.
Без сомнения, та, которая любила его теперь как женщина, уступала во многом Фанни.
У нее не было этих страстных, бешеных, увлекательных порывов, но глубокое чувство, и она была даже слишком тиха.
Леонид встретился с ней как-то вечером на улице, и она почти равнодушно пошла к нему.
Она была замужняя и рассталась с мужем, потому что судьба связала ее с негодяем, который бил ее, но всегда, когда она вспоминала его, у нее текли из глаз слезы.
Она оплакивала свою горькую участь и говорила, что не прочь была бы жить с ним, будь только у нее дети.