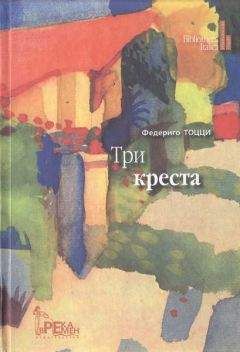Топпа зашел под стол и обнюхал все стулья один за другим, хлопая хвостом по посконной скатерти. Потом вышел.
Что означал этот круг по комнате? Бабушка и внучка переглянулись.
Но несчастья не случилось — и после ужина Орсола сказала Мазе:
— Опасность миновала.
Ей было завидно и, убедившись, что масло было пролито взаправду, она подумала:
— Вечно им везет!
Гизола села у окна — и время от времени плевала, целясь во что-то, едва различимое в темноте. Потом бросала взгляд на небо, где каждый раз добавлялись новые звезды.
Влажная полоса облаков цвета сепии четко отделяла темно-синее небо от горизонта, еще сиявшего закатным светом. Казалось, что кроны олив — это одно целое покрывало, зацепившееся и намотавшееся на растопыренные ветки.
На гумне чернели кипарисы.
Лоб девочки задевали белые мотыльки и мошки. Снизу тянуло горячим смрадом хлева, и к нему примешивался какой-то незнакомый аромат.
С персикового дерева с влажными смолистыми цветами стрекотнула цикада — как будто ей что-то приснилось.
Мука! Кому как не Мазе было знать, что такое мука и во сколько она обходится. Мука, белившая ей пальцы, мука, запертая в ларе с почти фанатическим благоговением.
Она жевала кусок хлеба, будто мальчишка из горной деревни, которому впервые достался кусочек сладкого, и он боится съесть его слишком быстро. Легко, не касаясь губами, она бережно обкусывала его и глотала, сидя нога на ногу и не сводя глаз с зажатого в пальцах ломтя.
Мукой была она сама и вся ее семья. Недаром Джакко говорил:
— Мы-то сами разве не из хлеба сделаны?
И когда он запускал голую руку в мешок с зерном, чтобы убедиться, что оно не преет, казалось, к нему льнет каждое зернышко.
— Жучки не завелись? — спрашивала его Маза.
— Да лучше б у тебя ребра треснули.
Маза краснела, по была довольна.
Агостино, сын торговца лошадьми и хозяина двух имений, граничивших с Поджо-а-Мели, не хотел, чтобы Пьетро много разговаривал с Гизолой — из самолюбия, которое у подростков так похоже на ревность. Он чувствовал, что должен ненавидеть простодушное уважение Пьетро — и снисходить к нему как к слабости.
В самом деле, Гизола вызывала в молодом хозяине неловкость и замешательство. Но он старался быть сильным и убеждал себя, что дружба Агостино ему дороже — становился при нем послушным и податливым, и пытался угадать его мысли, когда тот загадочно молчал. Порой стоило Агостино указать взглядом на камень, как он тут же нагибался его подобрать. И швырял, едва завидев на придорожном дереве птицу. Как надувал ветер распахнутую рубашку Агостино! Почему у него, Пьетро, не было таких рук, бровей, ушей, рубашки? И почему, когда он в подражание Агостино напускал на себя небрежный вид, то вдруг терялся и не смел дохнуть, ожидая, что гнев товарища обрушится сейчас на его голову. Почему пасовал перед его взглядом — сердитым, ясным и непроницаемым — когда позволял себе оставить его вопрос без ответа или неправильно угадывал? Этот взгляд пугал его — так пугаешься, когда вовремя не замеченный полноводный ручей вдруг возникает у тебя под ногами.
У Агостино был детский носик — маленький и вздернутый, весь в веснушках. Но шея, как у красивой женщины, и аккуратные руки. Его беседы с Гизолой складывались из самых пустых и обыденных слов, внятных лишь им двоим, и будили в Пьетро непривычные чувства, которые он и не надеялся пережить. С каким упоением он слушал! Как будто учился чему-то невероятно важному.
Гизола, мило улыбаясь, говорила такое, что только ей и могло прийти в голову, и Пьетро распирало желание выучить эти ее слова, как песенку. Но пение ему тоже не давалось — он этого стыдился и иной раз даже обижал ее нарочно, чтобы она не смеялась.
Лицо Гизолы под широкополой соломенной шляпой, неизменно сдвинутой набекрень и украшенной полинялой атласной лентой и двумя выброшенными Анной розочками, было неухоженным и спокойно-безучастным.
В своей плохо заштопанной юбке она выглядела простенькой и даже глуповатой.
Бывают существа, которые ни у кого ничего не просят и от всего отказываются. И поскольку считаются с ними меньше, чем со всеми остальными, то кажется, что с ними можно делать, что угодно. Поэтому все, что как-то связано с другими, их только отталкивает. Если их полюбят, они и не думают меняться, а спрашивают себя, во что обойдется им эта радость. И потом от нее шарахаются.
Когда Маза стучала костяшками Гизоле по лбу: «Да что у тебя там?» — та вскидывалась:
— Что б вы понимали? Ваше какое дело?
Порой она думала, со смесью злорадства и досады, что сам ее вид для людей оскорбителен. Когда говорили другие, она замолкала, считая, что все настроены к ней предвзято. Ничто ее не интересовало. Она слушалась Мазу и хозяев, потому что сама по себе не в состоянии была позаботиться ни о чем. И нехотя чувствовала, что существует еще что-то помимо нее.
Порой можно было подумать, что она разговаривает с приступком у входа, на котором обычно любила сидеть.
Иметь собственные мысли она бы ни за что не решилась — их у нее и так было слишком много и совершенно неподобающих. Как не решалась, зайдя в трактир, попросить разложенных там разносолов. Хотя их вид ошеломлял ее, как натопленные комнаты, к которым она не привыкла, и лицо ее вспыхивало.
Но было в ней какое-то предчувствие жизни, кружившее голову не меньше, чем чужие богатство и роскошь.
Рядом с Гизолой Пьетро переживал свои первые нежные чувства и был за это благодарен. Он восхищался цветком, когда ему приходило в голову сорвать его для нее. Но, не осмелившись, отбрасывал в сторону. Тогда он еще сам себе не верил, и его «я» будто съеживалось. И какой до жестокого непостижимой вдруг предстала перед ним вся природа! Есть от чего прийти в отчаяние!
Лежа ничком на земле, он крепко обнимал цыпленка и не хотел отпускать! Помог муравьям, убрав с их пути палку, на которую те пытались вскарабкаться — сперва нерешительно, потом в отчаянии, шатаясь под весом огромного для них зернышка и заваливаясь на спину! С умилением он смотрел, как ползет по руке божья коровка, и укорял ее, когда та улетала!
Он гнал от себя тоску, но никак не мог отделаться от нее полностью. Иногда вдруг отрывался от нее — и попадал в невнятное, смутное состояние души, все время ускользавшее. Дух его, казалось, разрастался до такой степени, что мысли вместе со случайными своими отголосками терялись в нем, как в огромной зале. Сколько раз он думал, что пропал окончательно, и образы внешнего мира захлестывали его с головой! Своя душа у него то как будто была — то съеживалась. И от таких перепадов его мутило, как при головокружении.
Иногда ему мерещилось, что он в школе, и вдруг туда заходил большой барабан. Тут ему становилось так смешно, что он пугался и еле сдерживался, чтобы не закричать от ужаса. Анна думала, что он заболел — и трогала лоб рукой:
— У тебя жар?
И он кричал:
— Нет! Нет! Отвяжись!
Прошел год с той соловьиной ночи. Год как год: трактир и посетители, Поджо-а-Мели и батраки.
С началом весны Доменико решил с размахом подготовиться к сбору урожая, который ожидался лучше прежних. Он чаще ездил в имение, словно давая себе роздых от трактирной суеты. И поскольку погода стояла хорошая, каждый раз брал с собой Пьетро. Может, на свежем воздухе он перестанет болеть!
Он тащил Пьетро в поле подрезать лозы и вообще заниматься хозяйством. Но тот был словно слеп и глух. И Доменико отправлял его обратно на гумно вместе с кем-нибудь из женщин, возвращавшихся с поля с охапками свежей травы или выбранных с пашни сорняков.
Как-то раз Пьетро поджидал отца, устроившись у двери Джакко на приступке, где обычно сидела Гизола — он подражал ей, сам того не замечая. Маза как раз заканчивала мести дом метлой, насаженной на старую ручку от зонтика, и подняла столько пыли, что ее вкус ощущался даже во рту.
— Встаньте, — попросила она.
Но он не двинулся с места. И Маза остановилась.
Среди цветастого тряпья, клубков волос и коробочек с выпавшим дном валялась кукла, сделанная из лоскута белой ткани и половника. Пьетро поднялся, чтобы ее подобрать. Но Маза, улучив момент, тут же выбросила мусор на улицу. Лежащая на спине кукла показалась Пьетро живой. И он ее не тронул. Тут с поля вернулась Гизола, увидела куклу в куче мусора и накуксилась, но промолчала, потому что бабушка давно уже велела ее выбросить.
— О всякой ерунде думаешь? — прикрикнула на нее Маза.
Пьетро, для смеха, загнал куклу пипками в самую грязь — и накинулся на нее в исступлении, с дико бьющимся сердцем, бледный от страха — ему показалось, что она вылезает назад.
Гизола, глядя на него от дверей, пробормотала:
— Дурак!
Пьетро стало неловко, и он, как мог, попытался с ней помириться. Но она отвернулась, кусая найденный в ларе ломоть хлеба. Тогда он достал из кармана перочинный ножик и всадил ей в бедро. Девочка, побледнев, еле удержалась, чтобы не вскрикнуть. Он решил, что ей не больно и, сердитый и обиженный, замахнулся, чтобы ударить еще раз — но она пнула его ногой и, бросив хлеб, убежала в комнату. Маза, услышав грохот опрокинутых стульев, перестала подметать и поспешила в дом к Гизоле, которая тихо ныла на одной тянущейся ноте, но скоро умолкла.