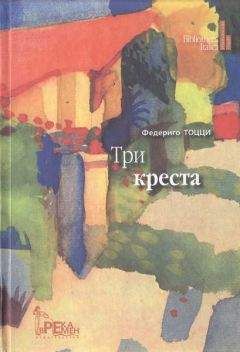Потом застегивались штаны, затягивались распущенные ремни, и посетители, сплевывая, толкаясь, обмениваясь подзатыльниками и дергая друг друга за усы, расплачивались, проходя друг за дружкой перед закутком, где сидела Анна.
А Пино? Пино, старый возчик из Поджибонси, был беднее всех. Он громко кричал, веселя народ:
— Найдется мне местечко?
Все отодвигались, но не потому, что его уважали — просто боялись нахвататься блох. Он это знал, но возражать не смел: лишь бурчал что-то под нос. И поскольку так его встречали повсюду, был не в претензии.
— Я не Бог весть какая птица! Мне и полместечка хватит! Ох, как косточки болят!
Один глаз у него все время норовил закрыться, и веки дергались, моргая по-совиному. Другим глазом он обводил комнату — медленно, начиная всякий раз сначала. Внимательно разглядывал руки, чтобы показать, что не забыл их вымыть. И действительно, мыл их в ведре, из которого пил его конь — такая же старая развалина, как и оглобли, многократно подмотанные бечевкой и проволокой. Сколько времени отнимала эта ежедневная починка!
Он тер пальцем глаза и ухмылялся, сам не зная почему — так что рот казался шире раза в два.
— Смеетесь, шельма! Что нынче прикарманили? Стянете что-нибудь с воза, а потом говорите — по дороге упало.
— Я? Ох, бедный я, бедный! Когда-то так делал, теперь уже нет.
Он тянул слова так, что они звучали задушевно и в то же время с хитрецой. И дальше:
— У меня дома две девицы на выданье! Сказать по правде на ушко — красавицы! Хотя жена уже — как тюк с сальным тряпьем, какое и в руки-то взять страшно. И вот две дочки, бедные девочки. Что ж мне с ними делать?
Во всем его облике проступала кроткая, но стойкая доброта — и щеки его под редкой! бороденкой были на удивление нежными, как у женщины.
Пино никогда ничего не заказывал — Доменико готовил ему одно общее блюдо из вчерашних остатков. И хватал за поля шляпы, чуть не тыкая носом в тарелку:
— Чуешь, чем тебя потчую?
— Правда ваша, малость залежалось, по почти не пахнет.
Адамо с Джакомино бросали ему куски хлеба или половинки фруктов. Он, не глядя на них, обеими руками подгребал еду поближе, будто хотел припрятать под ободок тарелки.
— Удачный сегодня денек!
С Анной он здоровался с большим почтением и, пока она не ответит, сесть не решался. Так что Анне, если она о нем забывала, приходилось потом говорить ему:
— Садитесь!
— Ах, можно? А я думал, я вам уже надоел! Как я устал!
И ждал, сложив руки.
Примерно раз в месяц он просил, чтобы Пьетро объяснил ему, что изображают олеографии на стене. Чтобы лишний раз их не снимать, Пьетро вставал на скамью. Но Пино упрашивал:
— Поднесите-ка поближе! Знали бы вы, Пьетрино, как глаза жжет! Того и гляди ослепну.
Одна картина называлась «Битва при Адуа», вторая — «Отцы единой Италии».
— Не слушайте папу, учитесь, — шептал Пино, ухватив его за рукав. — Уж я-то знаю!
И Пьетро, сам не зная зачем, гладил его по плечу.
Зимой, когда он входил весь мокрый и продрогший, в надвинутой на глаза шляпе и с поднятым, прикрывающим уши, воротником, Пьетро тут же выскакивал ему навстречу и молча придвигал лицо к нему вплотную, так что Доменико приходилось оттаскивать его за шиворот.
Он скоро умер, и никто этого не заметил.
Еще один год. Был конец марта, день святого Иосифа.
Неумолчный колокольный звон доносился до Поджо-а-Мели: звуки беспорядочно громоздились в небе и повисали там, нарастая до тяжкого грохота. Пьетро охватило необыкновенное веселье — радость жизни, но слишком сильная, выматывающая нервы.
Рассказать бы об этом смутном смятении марта, к которому почти всегда примешана тонкая нотка неги, жажда некой красоты!
Это обманчивое солнце, щебет птиц, пока еще исподтишка — то ли слышал, то ли нет — белоснежные облака, явившиеся словно до срока! А сухие листья, еще висящие над всходами пшеницы — здесь мертвенная блеклость мешается с живой! Листья всех форм и размеров, они висят над зеленой травой и ждут обновления! И подрезанные кусты и виноград — по земле разбросаны ветки и лозы, сейчас их унесут навсегда! А сухие сучья, опиленные с плодовых деревьев, чьи молодые побеги все никак не решатся выпустить цвет! Влажноватая земля, липнущая к кончику лопаты, так что приходится счищать ее большим пальцем — и целые комья остаются на деревянных сабо! И неведомая нам почти супружеская любовь, связавшая всех, кто помогает друг другу — и ненависть тоже! А народившаяся на кленовых ветвях омела, которую нож срубает одним махом! Хотя она тут же отрастет заново. А набухшие почки каштанов!
Доменико вместе с батраками пошел в поле, чтобы задать работу на завтра.
Пьетро был полный, но бледный и болезненного вида, ему шел пятнадцатый год. Ему казалось, что курточка с морским воротником, выкроенная из экономии из старой одежды, смотрится на нем нелепо и не по возрасту.
Быстрым шагом он вошел к Джакко, и тот привычным жестом положил руку ему на плечо:
— Не по дням, а по часам растете! Бьюсь об заклад, принесли мне курева.
Пьетро ухватил его за усы и стал тягать из стороны в сторону. Чтобы не было больно, Джакко вертел головой.
Пьетро засмеялся и взглянул на Мазу, которая сказала:
— Посильнее.
— Ну нет, хватит, — Джакко отстранил молодого хозяина осторожно, но решительно. Потом спросил:
— Что, ни одного бычка не принесли?
Ребекка, когда подметала в трактире, собирала попадавшиеся окурки, а потом передавала ему через Пьетро.
— Так барчонок у нас не курит! — опять перебила Маза, и они засмеялись вместе, как над хорошей шуткой. Отсмеявшись, она поджимала и кусала губы. Старик достал из кармана трубку с отбитым краем и коротким чубуком в ладонь длиной.
— Слава Богу, то, что ваша матушка дала на той неделе, еще осталось. Вот, смотрите.
Джакко выбил трубку о край стола: во все стороны брызнула какая-то горелая пыль. Он сгреб ее в кучку, перемешал и затолкал обратно. Потом достал из очага горящую щепку. Кое-как высосал из трубки немного бледно-голубого дыма. И глядя на него, произнес:
— Трубочный табак нынче редкость.
Затем большим пальцем со срезанным еще в молодости ногтем затолкал поглубже оставшийся в трубке уголек.
Пьетро снова увидел дымок и одновременно, как наяву, с болезненным чувством, свою мать — она была дома, подошла к ящику и хотела что-то достать. Но все ее бросили! И пока она возилась с ящиком, тот уползал куда-то в стену. Тогда он ощутил на лице ее руки — словно большой поцелуй, словно руки его целовали.
Маза, удивленная его ошарашенным видом, спросила:
— О чем задумались?
Джакко встал в дверях и сказал:
— Пойду займусь коровами. Дай-ка мне кнут.
Но Маза, встревоженная состоянием Пьетро, буркнула:
— Куда ты его дел?
— Поищи.
— Никогда сам за собой не смотришь. А потом жена должна за тобой ходить да все подавать.
— Заладила! Может, помолчала бы да нашла вместо этого кнут? Было б лучше.
— Хочу — и говорю. Не хуже тебя. — И решив, что Пьетро, видимо, за что-то сегодня попало, чтобы отвлечь его от грустных мыслей, спросила: — Видели сегодня Гизолу?
— А разве она не здесь? — откликнулся он рассеянно.
— Да вот захотелось ей пойти на мессу в Сиену, — проворчал Джакко, еще не остыв. Но Маза за нее вступилась:
— И правильно сделала. А то сидит в Поджо-а-Мели, людей не видит. — И, обращаясь к Пьетро: — Я думала, вы ее встретили.
Старики вдруг задумались и обменялись взглядами, смысла которых Пьетро не понял.
— На все воля Божья! — громко вздохнула Маза.
— Это вы про что? — спросил Пьетро. — Расскажите.
Его вдруг охватило жгучее любопытство.
— А где она? Скоро вернется?
Он разволновался. Взглянул по сторонам своими добрыми голубыми глазами и понял, что все это знают. Веки были горячими, как кипяток.
Запряженный в двуколку конь, привязанный во дворе к железному кольцу, клонился набок, отдыхая. Топпа глодал перепачканную землей сухую хлебную корку, для удобства крепко прижав ее лапами.
Не успев еще успокоиться, Пьетро увидел Гизолу.
Она выросла в юную девушку — худенькую, с тонкими губами. Черные глаза казались парой оливок, пропустить которые невозможно — они самые красивые на ветке.
Пьетро замер в восхищении. Она плавно шла, чуть встряхивая головой, ее черные как смоль волосы, приглаженные маслом, были уложены по-новому.
Гизола наклонила голову, пытаясь спрятать улыбку. И замедлила шаг, словно у нее был секрет, и она сомневалась, стоит ли им делиться. Ему стало горько, и он вышел ей навстречу, совсем как раньше, сам не зная, хочет ли стукнуть ее или что-нибудь рассказать — ему хотелось сделать ей больно.
Как похорошела она с их последней встречи!
Ревнивым взглядом он отметил красную ленту в волосах, натертые жиром туфельки и почти новое пепельного цвета платье — и вздохнул.