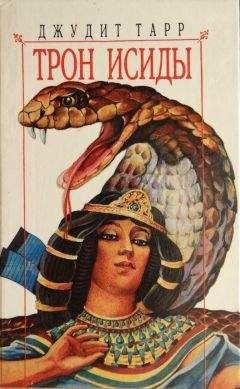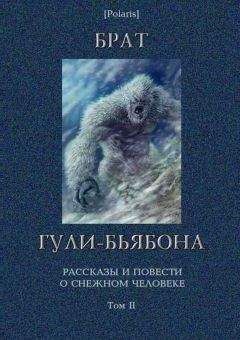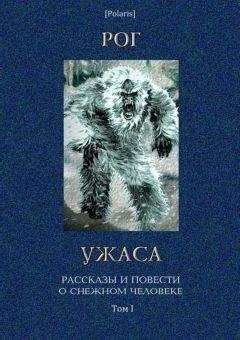— Доброго пути. И помни свое обещание.
— Обязательно. Я вернусь. И тогда… ты выйдешь за меня замуж?
— Может быть.
Луций Севилий медлил. Его конь снова забил копытом и заржал.
— Что ты, — сказал он наконец, — этого мне хватит надолго. И когда-нибудь ты все же будешь со мной.
— Главное — помни, — ответила она. — И возвращайся.
— «Луций Севилий, гаруспик, из Армении — госпоже Дионе из рода Лагидов, в Александрию, с приветом и пожеланием доброго здравия».
Диона сделала паузу. Она читала письмо Тимолеону. Ее пальцы дрожали, что было смешно. Это ведь просто письмо, а не поэма любви.
— Смотри, он пишет salve и chaire[47] — как римлянин и как грек. — Она надолго замолчала.
— Читай дальше, — попросил Тимолеон.
Диона с напряжением всматривалась в мелко исписанный папирус.
— Сейчас. Где же я остановилась? «…с приветом и пожеланием доброго здравия. И Тимолеону Аполлониду — с горячим приветом и теми пожеланиями, о которых он наверняка сам догадается».
Тимолеон громко прыснул. Диона слегка шикнула на него и улыбнулась, но продолжала читать.
— «Надеюсь, что письмо найдет вас всех в добром здравии и благоденствии. Надеюсь я также, что вы наслаждаетесь миром и покоем вашего чудесного города, который я тоже успел полюбить. Покинув тебя и твою царицу, госпожа, мы пошли маршем на север, по римскому берегу Евфрата — в Армению. Нас уверяли, что эта страна наш друг, в основном благодаря стараниям полководца Публия Конидия Красса. Народ действительно оказался дружелюбным и гостеприимным, но местность была столь же непроходимой, как и те, где я бывал раньше: гора на горе и сверху еще по горе. Так мы и шли, с грехом пополам, пока не дошли до Caranus — самого сердца Армении.
Здесь нас уже ждал Конидий с оставшейся армией. И какой армией! Он, госпожа, я уверен, что даже сам Александр в зените своей славы не видел ничего подобного. Казалось, она простиралась на тысячи и тысячи двойных шагов[48] вокруг города — вернее, городка, как ты назвала бы его после Александрии, но в той части мира он выглядит как могущественная метрополия. Наша армия набилась в него до отказа, даже прихватила поля вокруг городских стен. К исходу дня все еще казалось, что этому не будет конца. Наконец, все расположились и развели походные костры. Их огни мерцали, как звезды на черном небе. Я стоял на городской стене, смотрел вниз и думал: наверное, такое видят боги, глядя с высоты на планеты.
Ну, тут уже запахло поэзией, а я не поэт. Хочу только сказать: это — великая армия, величайшая армия эпохи. И каждый воин в ней душой и телом предан тому, кто ведет их на битву. Их преданность — нечто невероятное; она фанатична. Вздумай какой-нибудь безумец даже только шепнуть что-то, кроме слов глубочайшего обожания, и он тут же обнаружит, что окружен вооруженными, угрожающе-опасного вида людьми, готовыми умереть за доброе имя своего полководца; они почтут это за счастье. Маршируя перед ним, воины кричали и ликовали до тех пор, пока у них не осипли глотки; тогда они стали бряцать копьями о щиты, подняв такой шум, что, казалось, горы гудят от звона.
Они любят его, моя госпожа, и называют Великим. Но Антоний для них еще и простой смертный, которому не чуждо ничто человеческое. Завидев, как он тащится в свою палатку после одной из пирушек, люди смеются и говорят: «Смотрите, как бог вина опять его накачал». Но потом опять истово поклоняются ему, служат ему, как служили бы богу, и каждый, не моргнув глазом, отдаст за него жизнь. Антоний дает этим людям то, что им нужно больше всего — войну, на которой они могут сражаться, и полководца, который поведет их в бой. Именно это давал своим подданным и Александр.
У Антония, как и у его великого предшественника, есть дар устраивать спектакль из всего и талант к великому и грандиозному. По-моему, и тому и другому он научился у Цезаря — и у Клеопатры. Он оказался способным учеником.
Итак, сейчас, собрав все силы, мы выступили в поход. Армия необъятна — словно население целого города, карабкающееся по горам в Мидию. Антоний собирается взять Атропатену, которая — очень кстати! — является главной сокровищницей царства. Тогда парфянам будет нанесен удар в самое сердце, а наша армия баснословно обогатится — такое не приснится и самому алчному смертному, даже царю».
Диона остановилась, чтобы перевести дыхание.
— Весьма цинично, — с восхищением заметил Тимолеон. Он уже довольно давно предавался вселенской тоске и разочарованиям — кроме тех моментов, когда поддразнивал мать. — Маловато у него иллюзий. Вообще, Луцию Севилию следовало родиться в Александрии. Он и наполовину не так прямолинеен, как полагается римлянину.
— Ну, я не назвала бы Цезаря прямолинейным, — сказала Диона.
— Но Цезарь не был и римлянином из римлян, — заметил Тимолеон с мудростью юности. — А вот Антоний именно такой, даже в греческом платье, с греческими манерами и всем остальным. Но ведь это все игра. Теперь каждый мужчина — весь Рим.
— Может быть, — рассеянно проронила Диона, потягивая из чаши апельсиновый сок, все еще прохладный от снега, с которым был перемешан — снега с гор Армении, упакованного в солому, уложенного в лодки и отправленного в Египет как дар Антония царице. У него был незатейливый, хотя и немного странный вкус — он чувствовался даже сквозь горечь апельсина.
Она опять взяла в руки письмо. Луций Севилий явно писал его частями — дат не было, но местами цвет чернил менялся, почерк становился торопливей — словно о событиях более важных он рассказывал взахлеб.
— «После нескольких дней пути мы подошли к озеру Матина, и вечером, когда мы расположились лагерем, я увидел знамение — над бескрайней водой повисли три солнца, одно над другим: нижнее было самым большим, а то, что выше всех — самым маленьким, и вокруг всех трех пылал нимб белого огня. Это был знак, мы все так решили — и простые солдаты, и жрецы и астрологи; никто из нас не понимал, что он предвещает. Сам же я подумал об Александре, величайшем из царей и завоевателей, который, говорят, проходил через эти земли. Тогда второе солнце — над ним — могло быть Антонием. Но если я прав, то почему три солнца, а не два? Однако потом я подумал, что третье, возможно, — это Гелиос, которого царица назвала так с гордостью, граничащей с гордыней. Может, оно и так — а может, и нет; одни только боги знают — они ведь знают больше, чем может вообразить человек. Пока я стоял и смотрел, огромное солнце село, среднее потонуло в облаках и погасло, но третье росло и распускалось, как огненный цветок, пока не заполнило все небо; и тогда настала ночь.
Наутро мы гадали по внутренностям животным, как и положено, но не узнали ничего полезного. Боги хранили свою тайну. Итак, не ведомые богами — но они не остановили нас, — мы шли к Востоку от озера. Местность здесь была совершенно открытой — ни лесов, ни гор; и тут стало ясно, что обозы замедляют наше передвижение до черепашьего шага. Осадные машины, которые нам понадобятся при взятии Атропатены, всей тяжестью давили на повозки, и быки едва тащили их по равнине. Поэтому Антоний решил разделить армию: половина ее, налегке, быстро отправится к Атропатене и начнет осаду; оставшаяся — с большинством обозов, осадными машинами и двумя легионами[49] для охраны — потихоньку пойдет следом.
Такая стратегия в какой-то степени мудра, страна эта считается дружественной, и чем раньше армия дойдет до цели своего похода, тем вероятней будет застать город врасплох. Возможно, даже не потребуется настоящей долгой осады — если наши солдаты смогут прорвать оборону еще до того, как прибудут осадные машины.
Однако мне кажется, что Антонию не следовало дробить армию. Конечно, обозы очень замедляют ее продвижение — но зато меньше соблазна для тех, на чье дружелюбие к Риму положиться нельзя; и, госпожа, мои слова относятся к царю Армении. Я так и сказал Антонию. Конечно, он не был так груб, чтобы рассмеяться в ответ, но все же намекнул, что мне лучше держать свои знаки и книжную премудрость при себе и дать солдату возможность самому судить о премудростях военных. Вероятно, он прав, ведь я действительно в душе не солдат, хотя и участвовал во многих сражениях и достаточно потаскал доспехов и армейского скарба, отчего мои плечи покрылись шрамами, как и у любого ветерана…»
Дионе пришлось остановиться. Горло у нее пересохло, и не только от беспрерывного чтения. Она допила остаток холодного сока.
— Антоний не должен был делить свою армию, — произнес Тимолеон.
— Возможно, — сказала Диона. — Но я не вижу в этом смертельной угрозы — ни для Антония, ни для Луция Севилия. Если бы им грозила опасность, я бы уже знала. Богиня сказала бы мне.
Это были не пустые слова — и не самоутешение. Она чувствовала какую-то внутреннюю уверенность — и неспроста.