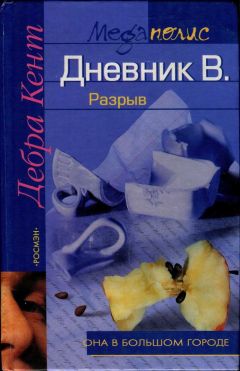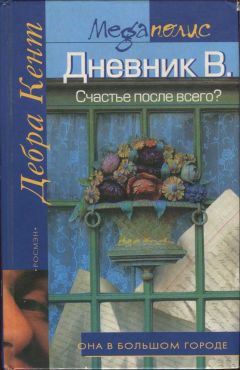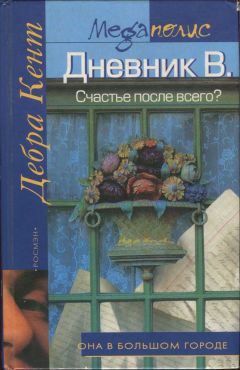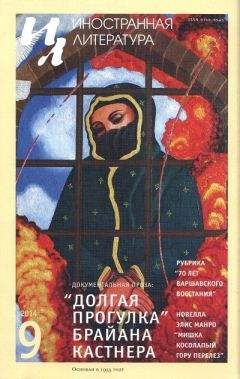— Почему вы мне не сообщили? — спросила я.
— Мы пытались. — Линетт заглянула в блокнот. — В 19.00, в 19.03, в 19.05, в 19.07 и в 19.10. Телефон был занят. По уставу дружины мы обязаны отмечать в журнале все телефонные звонки, сообщающие о чрезвычайных происшествиях. Можете мне поверить, это происшествие было из ряда вон выходящим. Пит очень мучился. Мы всю ночь пытались вам дозвониться.
Я чуть в обморок не упала. Я же сняла трубку после звонка жены Эдди! Никакими словами не высказать вину и боль, которую я испытала тогда, да и сейчас испытываю.
— Бедняжка! — донесся голос Линетт. — Мы пекли картошку, он даже не мог чистить ее из-за больной руки.
Заглянула в ее благообразное лицо. Сейчас на нем читалось огорчение. Удавить бы ее этой идиотской шейной косынкой!
Усадила Пита в джип, сунула диск в магнитолу, надеясь поднять настроение. Пит смотрел на меня в зеркало заднего вида.
— Почему ты не подошла к телефону? — спросил он.
Я чуть не заплакала.
— Солнышко, я не знала, что ты мне звонишь. Я случайно сбила трубку с рычажка, и всю ночь телефон был отключен. Прости меня.
Он только отвернулся к окну. Мне надо было написать на лбу: «Худшая в мире мать». Взгляд у Пита был суровый, строгий, как у старичка. В ту минуту я всей душой клялась Богу сделать свою жизнь лучше и чище. Надо поговорить с отцом Ли.
На сегодня все.
В.
Роджер позвонил и сказал, что задержится в доме творчества. До субботы не вернется. Ура-а-а!
Интересный побочный эффект прозака: зеваю без остановки. Широко, до хруста в челюстях. Не могу сдержаться, просто рот не закрывается. Еще один побочный эффект — газы. Забавно! Я была у родителей; отец, проспавший почти весь мой визит, проснулся и укорил мать за испорченный воздух.
Я решила, что не обязана признаваться, мама тоже не желала отвечать за это безобразие. Папа начал раскалывать нас обеих, наконец изрек:
— Кто больше всех отнекивается, та и виновата.
Было так радостно видеть, как он смеется! Но смех быстро утомил отца, и он снова заснул.
На кухне я призналась в содеянном и рассказала маме о прозаке. Она искренне огорчилась.
— Тебе нужны не таблетки, а развод, — сказала она.
— Но мне плохо.
— Еще бы! Конечно, плохо. А кому было бы хорошо замужем за этим подонком? — отпарировала она и принялась читать мораль: жизнь должна восприниматься как трудный путь, легких средств ее исправить не существует, такие лекарства только вредят нам.
Все это я уже слышала раньше и не собиралась освежать в памяти.
— Ладно, мам, я пошла.
Мы обнялись.
— Поцелуй за меня папу, когда он проснется.
— Хорошо. — Она крепко сжала мою руку. — Больше никаких таблеток, поняла?
Я только головой покачала и вышла.
На сегодня все.
В.
Ночью мне снилось, что по почте пришел отчет Либби Тейлор. Он был похож на выписку по кредитной карте — расходы страница за страницей. На последнем листе значилось: долг шестьсот сорок девять тысяч долларов. Роджер был нищим. Вместо миллионного состояния я оказалась собственницей долга в шестьсот сорок девять тысяч! Проснулась в слезах. Включила свет, бросилась в ванную и уставилась в зеркало. Заставила себя сказать вслух: «Это только сон», но заснуть уже не удавалось.
На сегодня все.
В.
Удивительное дело, то, о чем я все время испуганно себе твержу, — как Пит перенесет развод, как мне самой справляться с одиночеством, — я до сих пор толком не обдумала. Прямо медитация какая-то. Мысли проходят мимо меня, но я за них никак не цепляюсь.
Я решила пропускать мимо ушей мамины предостережения насчет прозака. Любопытно: только на Западе люди стремятся изо всех сил отделаться от страданий. В других культурах боль считается естественной частью человеческой жизни. Только американцам пришла в голову безумная идея о непрерывном счастье, которое мы все должны испытывать.
Ну и что плохого в желании быть счастливым? Чем американский образ мыслей безосновательнее всякого другого? Я хочу сказать, почему бы не применить в данном случае культурологический подход: одни культуры стараются смириться со страданием, другие стремятся его избежать, — нельзя сказать, что кто-то прав или неправ. Все относительно.
Теперь у меня есть наконец двадцатимиллиграммовый инструмент, помогающий достичь определенной меры счастья. И черта с два я им не воспользуюсь!
На сегодня все.
В.
У нас умер попугай. Я нашла его в клетке клювом вниз. Пит так рыдая, что его вырвало. Я не ожидала такой реакции — птица ему вроде никогда не нравилась. Пит потребовал устроить похороны.
Было не по-зимнему тепло, после дождя на дворе захлюпало. Я сказала Питу, чтобы он сходил за лопатой в гараж, и мы выроем могилку под голубыми елями. Земля оказалась тверже, чем я ожидала, мне хотелось бросить эту затею, но Пит заревел, и я снова вгрызлась лопатой в землю.
Линетт, казалось, только и ждала случая выдать свежую порцию добрососедского расположения, пока я лелеяла свою злость на нее. Она наблюдала за нами из-за забора.
— О! Птичка умерла?
Пит мрачно кивнул и вытер слезу забинтованной рукой.
— Вам помочь? У нас есть землеройная машина. Работает любо-дорого, даже на замерзшей почве.
Не успела я глазом моргнуть, как Линетт уже стояла рядом со своей штуковиной. Полетели комья земли, и мы все услышали: ЗВЯК!
— Блин! — сказала Линетт. — Наверно, на камень наткнулись.
Мы уставились в раскоп. Я хотела удержать Линетт от дальнейших исследований, но было поздно.
— Что это еще за штука? — Она полезла в дыру. — О Боже! Надеюсь, это не еще один гробик. Здесь ведь не кладбище домашних животных, да?
— Нет. Точно нет, — сказала я.
Попугай был нашим единственным питомцем. Роджер не разрешал никого заводить. Говорил, что у него аллергия, но я поняла в конце концов, что он просто боится. Пит однажды принес домой на выходные песчанку из «живого уголка». Роджер заставил нас поселить ее в гараже, где она умерла от перегрева.
Однажды у нас была золотая рыбка, выигранная на деревенской ярмарке. Она почти сразу умерла, как только мы пересадили ее из банки в аквариум. Пит хотел похоронить ее во что бы то ни стало. Роджер отправил его спать, пообещав, что положит рыбку в коробочку от леденцов и закопает под голубыми елями. Утром я нашла рыбку в унитазе. Видимо, Роджер забыл, чем может обернуться такая беспечность. Оказывается, он и правда закопал что-то под голубыми елями, только не золотую рыбку в коробочке от леденцов.
Линетт опустилась на колени и рукой в садовой перчатке полезла в дырку.
— Господи, тяжелый какой! — пыхтела она, доставая из глины небольшой ящичек.
Сейф!
— Может, просто оставить его там? — предложила я с натужной непринужденностью.
— Ты шутишь? — Линетт озадаченно уставилась на меня, смахнув падавшую на глаза челку. — Забавно!
Пит начал скакать вокруг нас:
— Может, это зарытые сокровища?
Я изо всех сил пыталась оставаться спокойной.
— Подождите. Теперь я припоминаю…
Пит и Линетт выжидательно смотрели на меня, пока я лихорадочно пыталась придумать что-то правдоподобное.
— Я думаю, это Роджерова «капсула времени». Знаете, в миллениум многие так делали. Я уверена, что это она.
Линетт поморщилась. Она была одной из немногих женщин, не очарованных моим мужем.
— Вряд ли. Слишком тяжелый ящик. — Она сняла перчатки и провела по замочной скважине наманикюренным пальцем. — Закрыто. — Черт… — Она скорчила гримасу.
Пит пролепетал что-то вроде «попробуйте мой ключ». Я подумала, что он говорит о ключике от пластмассового сундучка, который мои родители подарили ему на Рождество.
— Он не подойдет, скорее всего, мой сладкий, — сказала я. — Но все равно большое спасибо. Ты нам так помогаешь.
Потянула ящик из рук Линетт. Тяжелый — это не то слово. Жуткий, убойный вес. Наверно, Линетт решила, что Роджер закопал что-то действительно ужасное — наркотики там или расчлененное тело. Но я не собиралась отстаивать его репутацию.
Что ж, Линетт, как бы там ни было, я должна отнести это в дом. Роджер наверняка не захочет, чтобы мы вмешивались.
Сердце тяжело бухало, пока я тащила ящик домой. Поставила его на пол в гостиной и пыталась открыть всем, что под руку попадется. Ключом от старого чемодана, заколкой-невидимкой, булавкой, приспособлением для чистки грецких орехов, проволокой, отверткой. С каждой попыткой я все больше взвинчивалась, потела и отчаивалась. Вдруг откуда-то взялся Пит с ключом в здоровой руке.
— Мама, попробуй этот, — настаивал он.