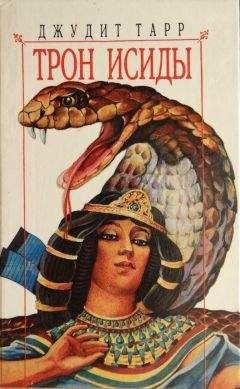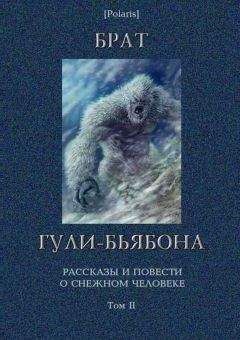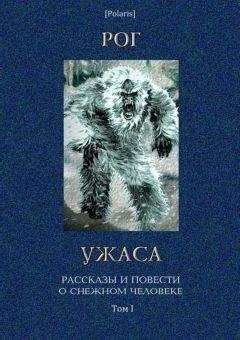Все вернется! Диона снова будет смеяться. Ее самый младший ребенок должен понять то, что поняли его братья. Он еще слишком мал, слеп и невежествен, чтобы знать, что такое жизнь. Но он научится знать это.
Никогда еще он не молился с такой страстью, как сейчас, никогда до такой степени не собирал в кулак волю, чтобы соблазнить строптивца войти в этот мир. А тот сопротивлялся со всей силой невежества.
— Вспомните, — сказал Луций детям, молча смотревшим на него. — Вспомните.
Воздух стал густым, густым, притихшим, наполненным ужасом, словно перед грозой.
Что-то шевельнулось в душе Луция — что-то похожее на надежду. Перед глазами предстал образ: Диона, словно пробуждавшаяся ото сна, потягивалась и глядела по сторонам еще мутным, полуосознанным взглядом.
— Что? — спросила она.
— Диона! — позвал Луций.
Она обернулась к нему, как делала всегда, просыпаясь, улыбнулась, сонно прижалась к нему и потянулась с поцелуем.
Нет, она здесь еще не вся. И все же она здесь. Ее губы были теплыми и одновременно холодными. Он прижимал ее к себе и вместе с тем странным образом находился внутри нее, борясь с волнами боли, разливавшимися по ее телу, не желающими отпускать.
— Хватит, — приказывал он боли. — Заклинаю, проклинаю тебя — хватит!
— Нет, — сказала Диона внутри него, снаружи него. — Так думают все мужчины. А ведь раньше ты был мудрее. Мы уговорим его. Мы заманим его. Смотри!
Да, это словно ворота, запертые изнутри. Но замком была плоть, а плоть может быть податливой, может сдаваться.
— Ну же, — проговорила Диона. — Иди, дитя, иди в этот мир. Выйди наружу и взгляни на солнце. Посмотри, какое оно.
А потом пришла боль — страшная, убивающая надежду, и нет слов, чтобы рассказать о ней. А потом… потом боль растаяла. Накатила волна и выплеснулась на берега всех морей мира.
Измотанный столькими страданиями и борьбой с неизбежностью Луций Севилий почти с разочарованием смотрел на маленькое красное сморщенное существо на руках Гебы.
— Дочь, — сказал он. — У меня дочь.
Геба широко усмехнулась. Луций, все еще в тумане нереальности, украдкой заглянул в крохотное личико. Оно было неожиданно, ошеломляюще уродливым.
— Я должен думать, что она красива? — беспомощно спросил он.
— Конечно, нет, дурачок, — этот голос он уже не надеялся услышать, почти не надеялся, даже сейчас, когда опасность миновала. Диона улыбалась ему с ложа, чуть озорно; лицо ее было измученным, но взгляд — победоносным. — Все новорожденные необычайно уродливы. Удивительно, как это они потом становятся такими очаровательными.
Луций бросился было к жене, но бдительная Геба опередила счастливого отца, сунув ему свою ношу. Луций опомнился и обнаружил в руках сверток пеленок и внутри — детское тельце.
— Маленькое чудовище, — сказал он ласково. — Маленькая убийца. Я должен ненавидеть тебя.
Дочь открыла глаза, слишком маленькие и беспомощные, чтобы видеть. И все же, казалось, они видели его и знали, кем он был и что здесь делал: в этом взгляде была мудрость только что пришедшего на эту землю. Глаза были голубыми, как у всех младенцев, но вскоре они потемнеют и станут карими — как у матери.
Встретив взгляд этих глаз, он ощутил вовсе не ненависть, даже не злость на то, что она чуть не убила свою мать. Она действовала инстинктивно, цепляясь за единственный источник надежности и безопасности, известный ей в этой жизни.
Бережно, почти со страхом, Луций коснулся пальцем ее щеки, невероятно мягкой. Чмокая губами, она повернула к нему головку, повинуясь первому инстинкту новорожденного существа.
— Лучше дай ее мне, — сказала Диона. — Сейчас ей нужно то, что не может дать ни один мужчина.
Луций засмеялся и отдал ребенка жене. Там дочь, казалось, гораздо больше на своем месте, чем в его неловких объятиях. Сердце его было переполнено разными чувствами, и говорить он не мог, только смотрел, как крошка нашла наконец грудь и атаковала ее с неожиданной, внушающей уважение силой.
Диона заморгала, но тут же улыбнулась.
— Она сильная. Слишком сильная, чтобы я могла кормить ее сама. Но я — первое утешение и покой, которые она знает. И будет помнить их всю свою жизнь.
Его снова пронзил страх.
— Тебе нехорошо?
— У меня все в порядке, — спокойно сказала Диона. — Но на сей раз у меня будет немного молока. Я знала это еще до ее рождения. Понимаешь, такова цена. Но она сильная и будет жить — мне обещано. Ты не очень будешь возражать, если я назову ее Мариамной?
Вообще-то, он хотел назвать дочь Севилией, как принято в Риме. Но сказал:
— Конечно, она будет Мариамной.
— И ты ее принял? — спросила Диона. — Ты признал ее? Нет, я не сомневалась. Но… разве можно знать наперед…
Почему она спрашивает? Луций не мог припомнить, чтобы сделал что-то не так. Геба сунула ему в руки ребенка — да, это было; но он мог вернуть его назад. По закону, большего для отказа от ребенка не требовалось.
Луций пожал плечами. Он никогда бы не поступил так — во всяком случае, не после столь долгой борьбы и страданий, борьбы за то, чтобы его дочь пришла в этот мир.
Глаза Дионы слипались, но улыбка с лица не сходила. Луций нагнулся и поцеловал жену в лоб. Он оказался прохладным — лихорадки не было, но и холодности смерти тоже. Мягко улыбаясь, в полусне баюкая дочь, она уснула.
Кормилица, которую нашла Геба, была тихой, спокойной молодой женщиной, египтянкой, потерявшей ребенка за день до рождения Мариамны. Возможно, в другое время Луций и стал бы возражать против найма свободной женщины, ведь они вполне могли купить рабыню, но он все еще находился в эйфории от того, что стал отцом. И никогда не был жадным. Женщина казалась опрятной, чистоплотной, почтенной и прошла обучение в храме.
— Наверное, нам следовало нанять и ее мужа? — спросил он Диону.
— А мы и так уже наняли, — ответила жена. — Он — помощник управляющего нашим поместьем на озере Мареотис. Геба увидела там Танит и решила, что она вполне подходит для кормилицы, если, конечно, та захочет. Танит не возражала. Как жаль, что у нее умер ребенок. Для Мариамны было бы хорошо иметь молочного брата из старинного египетского рода.
Иногда женщины в доме Луция обделывали свои дела без его ведома. Насколько он знал, на такое самоуправство обычно жаловались все мужчины — и женатые, и неженатые. Луций придерживался другого мнения, а именно: его это нисколько не задевало.
— Так Танит должна была стать жрицей? Значит, у нее тоже есть магический дар?
— Да, она была жрицей, — сказала Диона. — Впрочем, она и сейчас жрица. Я была одной из ее наставниц много лет назад, когда жила в храме. Она очень умна, образованна и очень искусна в делах магии.
— А это было простым совпадением — что у нее родился ребенок почти в один день с тобой? — бездумно спросил Луций.
Диона спокойно ответила:
— Наверное. Хотя, когда служишь Богине, ничего нельзя знать наверняка. С Мариамной может возникнуть много трудностей. Она — дитя богини; ей нужна кормилица, которая умеет обходиться с такими детьми. Попытайся я ухаживать за ней сама, она бы стала совершенно невозможной, потому что впитала в себя очень много магии и крайне мало здравого смысла.
— Как же так? Ты у нас такая разумная женщина, — поддразнил ее Луций.
— Да, теперь я стала такой, — сказала Диона и улыбнулась с едва заметным огоньком озорства. — Ведь я замужем за римлянином.
Луций покачал головой — он изо всех сил сдерживал смех, но ему не удавалось даже хотя бы принять строгий вид.
— А наша новоявленная кормилица — на вид самая обыкновенная и безобидная, как мышка. Вы все такие хитрюги?
— Нет. Мы просто спокойные — но иногда вынуждены быть великолепными.
Да, подумал Луций, когда необходимо, они самые великолепные люди на свете. Даже его жена, в своей скромной ночной сорочке, без всяких драгоценностей, кроме кольца с изумрудом, которое он подарил ей на следующий день после рождения Мариамны.
Он не должен думать о том, чтобы высвободить жену из этой самой сорочки и отнести на ложе — сейчас ей пока нельзя… Но, судя по ее взгляду, Диона думала о том же самом. Оба удовольствовались довольно чинным поцелуем — по крайней мере вначале. Когда поцелуй начал становиться более страстным, Луций оторвался от ее губ. Это было очень нелегко, но римляне умеют быть благоразумными.
В душе Луций проклинал свое благоразумие, но не мог переступить через него — он слишком дорожил этой женщиной.
— Скоро ты поправишься, — прошептал он. — И тогда…
— Тогда, — сказала она, — будет нечто необыкновенное. Ожидание делает это только слаще.
Несомненно, она была права, но Луций с превеликим трудом подавил искушение поцеловать ее опять, целомудренно, в лоб — такое целомудрие не продлилось бы долго, — и едва выдохнул: «До свидания». Диона же была невозмутима, как всегда.