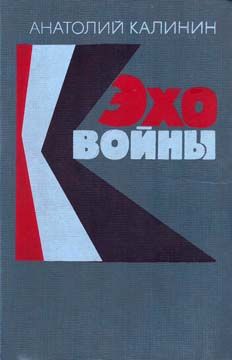Увидев Толю, она не почувствовала ничего, кроме жалости, к этому худенькому больному ветрянкой мальчику-сиротке. Он был почти на два года старше ее, уже мужал его голос, раздавались вширь плечи. Но Машину женственность могла пробудить не мужская сила, признаки которой она пока еще не умела ни различить, ни почувствовать, а искусство и красота, что, впрочем, для нее всегда было синонимами. Толя не был красив в обычном смысле этого слова, к тому же был застенчив и по-провинциальному робок, но в том, как он иной раз говорил об Иисусе Христе, Деве Марии, Святом Крещении, ей чудилось что-то сродни искусству, музыке даже, ибо в это время лицо Толи преображалось, становилось одухотворенно страстным, и Маша не могла отвести от него глаз.
Однажды ей пришло в голову: если бы оно было таким, когда он разговаривал со мной, обо мне… И вдруг закружилась голова (это случилось, когда она занималась в душном клубе). Маша убрала руки с клавиш, долго смотрела перед собой, потом вдруг спрятала лицо в ладонях. Ну а вечером этот разговор на веранде, имевший продолжение в беседке. Если бы Толя видел ее сейчас… Что бы он подумал? почувствовал? Неужели опять бы вспомнил своего Бога?..
И все равно она ревновала Устинью к нему — ревновала тихо, молча, никого ни в чем не упрекая, но и не оправдывая. Ревновала потому, что какая-то часть Устиньиной любви, принадлежавшая испокон веку ей, Маше, больше ей не принадлежала. Маша не любила терять, хотя и не была жадной. Ей казалось, что, теряя, приближаешься к смерти. Маша очень любила жизнь.
В настоящий момент она разглядывала свои загорелые руки и ноги и ей казалось, что в них, в изгибе бедра, в грудях, уже заметных даже в широком сарафане, столько прелести и тайны, неведомой даже ей самой. Она последнее время очень полюбила свое тело, хотя никому, даже Устинье, об этом не говорила.
Маша так же быстро оделась — солнце уже стояло высоко, даря свое равнодушное золотистое тепло всем подряд, первые же лучи адресовались только ей. Она быстро спустилась вниз, стащила в воду лодку. Обратная дорога показалась длинной и утомительной. Маша буквально валилась от усталости и душевной опустошенности. Войдя на цыпочках на веранду — в доме еще спали и ее отсутствие наверняка осталось незамеченным — Маша разделась догола и плюхнулась на свою раскладушку.
Над ней щебетали птицы, позвякивал стеклышками веранды ветер, и сладок и полон предчувствия счастья был легкий девичий сон.
Толя проснулся и решил выйти в сад. Путь туда пролегал через веранду. Он знал, что Маша уже встала и занимается возле своей палки. Обычно проходя к лестнице, он нарочно отворачивался — Маша не любила, когда на нее смотрели во время экзерсисов, как она называла свои упражнения. Правда, иной раз она сама окликала Толю, стоя невозмутимо ровно и положив на палку обутую в балетный тапочек — пуант — или босую ногу. Они говорили друг другу «доброе утро», и Толя спешил умыться, причесаться, а иногда даже и искупаться в море. Часто минут через пятнадцать к нему присоединялась Маша. Но она тут же уплывала далеко в море, а не умевший плавать Толя следил со своего мелководья за дельфиньими движениями ее смуглого тела.
Сегодня, проходя по веранде, Толя не увидел краешком глаза Машу, которая, как он знал, должна в это время стоять возле своей палки. Он непроизвольно повернул шею, и увидел под окном белое пятно незастланной раскладушки.
Собственно говоря, это только поначалу оно показалось ему белым. На самом же деле среди белых простыней лежала Маша — абсолютно нагая, загорелая, со свесившимися до пола волосами.
Толя замер. Ему стало нечем дышать, сердце колотилось где-то в горле, руки и ноги налились свинцовой тяжестью.
Как же прекрасно было это тело… Страстно хотелось прикоснуться к этим сильным, стройным ногам, к маленьким белым ягодицам… Толе было не знакомо чувство собственничества, терзающее каждого нормального здорового мужчину при виде прекрасного женского тела, ибо мужчиной он еще не стал. Нет, прикоснуться — это слишком, это… он ни за что не посмеет сделать. А вот встать на колени и молиться. Не Богу, а этой девчонке, спящей в своем коконе девичьей тайны и безмятежности.
Он бесшумно приблизился к раскладушке. Маша шевельнулась, повернулась на бок, потом легла на спину. Толиному взору открылся маленький треугольничек еще редких волосков в низу живота, белые груди с ярко-розовыми круглыми сосками. Он никогда не видел нагих женщин, даже на картинках. Он видел нагих детей — своего брата и сестер — в бане. Но они были совсем детьми, и их тела не вызывали у него никаких чувств.
Он подошел совсем близко, и теперь смотрел на Машу сверху вниз.
Она вдруг открыла глаза и сразу увидела его. Она не испугалась, не стала натягивать на себя простыню или же закрываться руками. Она сказала:
— Мою кожу словно огнем жгло. Наверное, это был твой взгляд. Ты давно здесь?
Он не мог вымолвить ни слова — теперь он просто пожирал ее глазами.
Она вдруг улыбнулась.
— Я знаю, что я красивая, — сказала она. — Я на самом деле красивая?
— Да, — с трудом выдавил из себя он и, поперхнувшись, закашлялся. — О Господи, это ведь такой грех.
— Что — такой грех? Быть красивой?
— Да… Нет… То, что ты… что я…
Внезапно он встал на колени и положил голову на краешек ее раскладушки. Она почти касалась ее полусогнутой ноги, и Маша почувствовала на своей коже горячее Толино дыхание.
Она сладко потянулась, ей ничуть не было стыдно своей наготы, потому что нельзя стыдиться того, что красиво — это она прочитала в какой-то книге совсем недавно и восприняла буквально. Тем более, что лежа сейчас нагой перед Толей, она вовсе не думала о том, чтобы соблазнить его — да она и не знала, что значит соблазнить мужчину и как это сделать, хотя, разумеется, и представляла в самых общих чертах, что происходит между мужчиной и женщиной в одной постели. Маше нравилось, что Толя ею любуется. Она бы очень страдала, если бы он не обратил на нее внимания.
— Ты что? — едва слышно спросила она и дотронулась пальцами до его волос. Они оказались мягкими и приятными наощупь.
Толя вздрогнул и поднял голову.
— Я женюсь на тебе, — сказал он. — Подрасту немного и обязательно женюсь.
— Зачем?
— Ты первая женщина, которую я увидел без одежды. Поэтому я должен на тебе жениться.
Машу почему-то смутили Толины слова и она натянула до самого подбородка простыню. В слове «жениться» ей всегда чудилось что-то нечистое и неприличное.
— Но я никогда не выйду замуж, — сказала она. — Я буду актрисой. Балериной. И посвящу всю жизнь сцене. У меня будет много поклонников.
— Ты будешь водиться с чужими мужчинами? — Толя резко встал с колен и теперь смотрел на Машу сверху вниз гневным взглядом рассерженного мужчины. Это… это… Я убью тебя тогда.
Маша расхохоталась, быстро обернулась простыней и вскочила.
— Ты ревнивый, да? Ты очень ревнивый?
— Не знаю… Я… только сейчас это почувствовал. Раньше я не знал, что так может быть.
— Ты стал ревнивым, когда узнал меня?
Толя молчал.
Маша ловко завязала на плече концы простыни, и теперь обе ее руки оказались свободными.
— Потому что я красивая или ты ревновал бы любую девочку?
— Потому что ты очень красивая, и я… я…
Маша подошла к нему совсем близко и положила руку ему на плечо.
— Ты умеешь хранить тайны? — спросила она.
— Да, — сказал Толя, не мигая глядя в ее продолговатые елочно-зеленые глаза.
Она вытянула шею и наклонилась к его уху — они были одного роста, но Маше не хотелось касаться голой рукой Толиного плеча, поэтому пришлось вытянуть шею — и прошептала:
— Мне кажется, мы с тобой родственники. Дело в том, что моя настоящая фамилия вовсе не Соломина, а Ковальская. Соломин — мой отчим, хоть я и называю его папой и очень-очень сильно люблю. Устинья почему-то скрывает свою настоящую фамилию. Она мне сказала, что она — Веракс, но я еще раньше видела случайно ее паспорт. Так вот, она тоже Ковальская, как и мой отец. Она не говорит мне, кто я ей, но часто называет «Коречкой». Это по-польски «дочка», хотя я ей вовсе не дочка. У меня есть настоящая мама, и после того, как погиб отец, она вышла замуж за Соломина. Постой… — Маша увлекла Толю на лестницу, и они присели рядышком на теплую бетонную ступеньку. — А ты не знаешь, какая фамилия была у твоей матери до замужества?
— Нет.
— А вот я знаю, что моя мама была Богданова, потом стала Ковальская, а сейчас она Соломина. — Маша неожиданно вскочила на ноги и воскликнула: — Поняла, я, кажется, все поняла. Устинья тоже была когда-то женой моего настоящего папы, еще до того, как он женился на моей маме… Нет, она была его сестрой. Значит, мне она приходится теткой. А раз она приходится теткой и тебе, мы с тобой двоюродные брат и сестра, кузен и кузина.