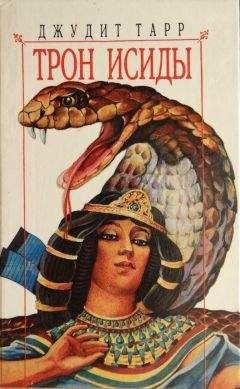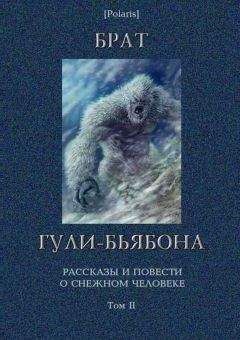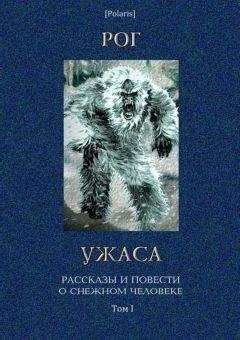Похоже, та же мысль пришла в голову и Тимолеону. Он огляделся по сторонам с едва заметной улыбкой, кривившей его губы.
— Мне велеть их прогнать?
«По крайней мере спросил, — подумала Диона. — Какой прогресс!» Но вслух сказала:
— Нет. Нет, пусть остаются. У них на это такое же право, как и у нас.
Тимолеон вскинул брови.
— Но мы — Лагиды. А они — чернь. Сброд.
— Я вижу, ты вырос заносчивым, — довольно мягко сказала Диона.
Тимолеон был задет, но засмеялся и скроил спокойную мину. Диона повела его и остальной свой эскорт к саркофагу. Толпа здесь была гуще всего: многие тянули шеи через плечи и головы друг друга, вставали на цыпочки, стараясь рассмотреть фигуру, лежащую под хрустальной крышкой.
Дионе не нужно было заглядывать в саркофаг. Она знала это лицо так же хорошо, как свое собственное; а может, и лучше еще, потому что ей приходилось видеть его не только в зеркале. Она давно уже гадала, каким он был при жизни. Конечно, не застывшей мумией с иссохшей, ввалившейся на костях плотью, — но живым, стремительным. Наверное, его энергия проявлялась даже в движениях: быстрый поворот головы, вспышка глаз, ясная, быстрая, четкая речь, о которой слагали легенды. Он никогда не был тихим и спокойным человеком — как и не был лишен страстей.
Теперь все это ушло. Все в прошлом. Здесь, в настоящем, была только скорлупа, пустая оболочка, утратившая душу — или души, как верят египтяне: «ка», бывшее прообразом тела, «ба», крылатый дух, и другие, низшие тени, которые дают человеку возможность жить. Большинство из них отправились туда, куда уходят все умершие — на цветущий Луг или в Элизиум греков. Может быть, «ба» Александра и осталось здесь, говорят, что такое бывает, — в образе быстрого сокола с головой человека, но Диона никогда его не видела. Может быть, толпы народа спугнули «ба», или Александр, сын Амона, сам почти бог, покидая этот мир, взял все души с собой и не оставил ничего, на что могли бы дивиться дети земли.
Диона пришла не говорить с ним. Если бы ей случилось родиться такой самонадеянной, она пришла бы сюда ночью, когда мертвые чувствуют себя наиболее легко и свободно, когда Сема пуста и ее ворота закрыты, охраняя тишину и уединение. Она пришла сюда при свете дня, исполняя желание богини, и потому хотела понять не только лежащего в саркофаге, но и свою душу. Александр, царь Македонии, архонт[77] греков, царь Азии, фараон Египта, великий царь Персии, создал империю, но не оставил после себя наследника, обладавшего его силой и мощью, чтобы править так, как правил бы он. Когда он умирал, люди спросили: кто же теперь будет править? кому теперь принадлежит мир? Но он не оставил им в помощь ни единого слова, никакого намека, где можно искать такого правителя; просто пробормотал слово, которое могло означать либо «кратер»[78] — так звали одного из его полководцев, — либо «kratistos» — «сильнейший».
Конечно, удобней всего верить в «kratistos». Войны, разгоревшиеся после его смерти, длились почти целую жизнь мужчины и окончились тем, что империю растащили на лоскутки, крохотные и не слишком, а тело царя украл его друг, полководец — и, по слухам, его сводный брат. Он отвез тело в Египет, где оно и осталось. От этого самого полководца происходил род Клеопатры. А Диона была потомком человека, которого усыновил его брат.
Понемногу толпа возле саркофага поредела. Диона подошла к нему. Царь лежал в своей хрустальной тюрьме, блистая золотом доспехов, как лежал уже много-много лет.
— Что бы ты подумал о нас? — спросила его Диона. — О тех, кто правит там, где когда-то правил ты? Что бы ты сказал о нашей царице, эллинке до мозга костей, которая видит и мыслит себя царицей Египта и хочет стать царицей всех покоренных земель? Ты восхищался бы ею или нашел бы достойной осуждения?
— Она пришлась бы ему по душе, — сказал Тимолеон, и Диона вздрогнула от неожиданности, совсем позабыв, что с нею был кто-то еще. — Ему нравилась бравада; он понимал женщин, ставших царицами. Мать его была именно такой.
— Его мать была мегерой. И бой-бабой.
— Клеопатра такая же. Она амазонка, боец. И я обожаю ее за это. Она… она грандиозна.
— Да уж, — иронично сказала Диона. Тимолеон оказал ей хорошую услугу: вернул на землю, к себе самой, и прочистил мозги. Она положила руки на саркофаг. Хрусталь был прохладным, почти холодным. На нем обитала, шевелилась жизнь: мысли, воспоминания, видения людей, которые приходили сюда и уходили отсюда все эти долгие триста лет. Ей стало бы дурно, позволь она всем этим жизням войти в ее душу и мозг. Она успокоила их словом и жестом: движением руки вдоль мерцавшего камня.
На нее смотрела толпа. Диона изгнала этих людей из своего сознания. Кто-то должен объяснить им, кто она такая; а может, и не нужно… Ее дюжие стражники внушали опасение и могли предотвратить любые неприятные инциденты; кроме того, рядом был Тимолеон. Неожиданно он оказался замечательным защитником: его белозубая улыбка разила наповал с не меньшим успехом, чем кинжал — если бы он висел у него на поясе.
— Скажи мне, — обратилась Диона к мужчине, лежавшему в хрустале. — Почему я не могу быть просто счастливой? Что заставляет меня постоянно волноваться, ходить туда-сюда и высматривать знаки в тенях стен?
— Не стоит спрашивать об этом его, — вставил Тимолеон. — Ты сама и заставляешь. Ты боишься, что кто-то у тебя отнимет все это.
— Нет, — возразила Диона. — Есть что-то еще. Богиня хочет, чтобы я была здесь. Зачем?
— Чтобы увидеть, — быстро ответил Тимолеон. — И понять.
— Что? Что Александр мертв? Что Антоний — не Александр? Что его преемницей могла бы стать Клеопатра, но среди всех женщин на свете ни одна не согласится принять на себя такую роль?
— Ты все это знаешь уже много лет, — спокойно произнес ее сын. — Возможно, ты должна понять, что сейчас царица держит в руках весь мир и не упустит его, пока жива.
Диона содрогнулась.
— «Помни, — проговорила она, — что и ты смертен».
Краешком глаза она заметила, что Тимолеон кивнул, и услышала чистый молодой мужской голос, в котором было нечто — больше, чем просто нечто — от богини.
— Гордыня. Гордость, которая раздражает богов.
— Но они сами — боги.
— Как и он. — Тимолеон положил руку на саркофаг рядом с рукой матери. Обе руки были очень похожи: одна — совершенно гладкая, юная, другая — уже с первыми признаками времени; это было сродни маленькой смерти, намеком на то, к чему идут все мужчины и женщины, бредущие по дороге жизни.
— Даже боги смертны, — сказала Диона.
— Конечно, — согласился Тимолеон. — Они должны дать место тем, кто придет после них.
Диона перевела взгляд с сына, так похожего на нее, на крохотного котенка, пристроившегося в складках плаща — он был образом и подобием своей матери.
— Но не до конца… — Она пыталась заставить Тимолеона понять. — Все меняется. Иногда большое становится меньше, как сказали бы поэты.
— Но они действительно разные. Ты хотела бы Александра вместо Клеопатры?
— Нет. Вовсе нет.
Тимолеон кивнул так, словно говорить больше было не о чем. Но… — это не выразить словами. И Диона снова перевела взгляд — на сей раз на хрусталь между их рук. Там шевелились тени, силуэты, едва различимые образы и видения: почти невидимые, непонятные. Лицо Клеопатры под короной из золота. Антоний в доспехах; лицо скрыто в тени, но не остается никаких сомнений, что это он, его ширь плеч и упругая сталь тела. Корабли в море. Ревущее пламя. Легионеры; плащи цвета крови. Человек в белом — на нем тога, ошибки быть не может, как не может она скрыть неловкости его движений, их вымученное, несуществующее достоинство. Мужчина был молодым, щуплым, с длинной шеей, словно у птицы; рот крепко сжат, глаза прищурены, словно он подсчитывал каждый обол в кошельке.
Казалось, он взглянул ей в лицо и нахмурился, озадаченный и раздраженный тем, что за ним шпионят. Диона глазом не моргнула: ей нужно было разглядеть его целиком. Но он был слишком умен для нее, или, может, для богини, которая дала ей глаза, чтобы видеть. Мужчина накинул край тоги на голову, спрятав лицо, и растворился в общем белом пятне одежды и света — отблеска светильника на панцире Александра.
Но он не сумел скрыть своего имени. Гай Юлий Цезарь Октавиан. Цезарь Октавиан. Наследник Цезаря. Нет, только не он…
Диона заморгала. Мир снова обрел резкость. Страх ушел, но на душе стало беспокойнее, чем всегда. Однако теперь она знала причину.
— Мне пора, — сказала она.
Ее стража развернулась к дверям.
— Домой? — спросил Тимолеон.
— Нет. Или… да. Сначала домой. А потом я должна ехать.
— К Клеопатре?
Диона встретилась с глазами сына, раскрытыми шире, чем обычно; взгляд его был мрачен.
— Да.
— А потом?