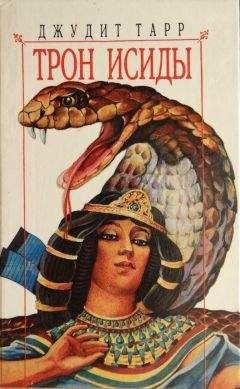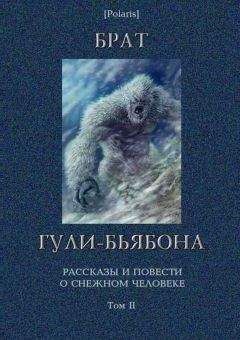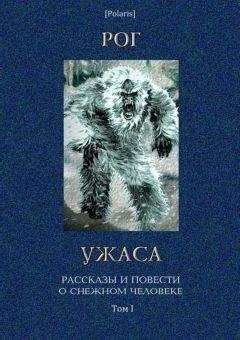Послания были извиняющимися.
«Мы очень просим простить нас, — писал один из них. — Мы старались изо всех сил. Но мы не видим возможности поселиться на берегах Нила и жить там тихо и мирно. В конце концов, мы же римляне. Италия у нас в крови».
Это был еще один удар по состоянию духа Антония, еще одно подтверждение того, что Roma Dea повернулась к нему спиной.
Потом пришла другая весть, ввергшая его в еще большее отчаяние. Скарп, командир его легионеров в Киренаике, перешел на сторону Октавиана. Теперь у Антония не было убежища — он был заперт в Египте, а Скарп висел у него на хвосте, подумывая порадовать новых союзников добрым сражением. Правда, это немного расшевелило Антония — он наконец вышел из винного ступора и отвел часть флота к Парэтонию. Здесь, среди обширных просторов песка и камней, согретых уже нежарким солнцем, он показал Скарпу свои зубы и когти — и до того впечатляюще, что тот галопом убрался восвояси.
Клеопатра не горела желанием заточить себя посреди унылый пустыни, но она пошла бы на это, если бы Антоний явно нуждался в ней. Однако он отправил ее назад, сделав вид, будто к нему вернулись бодрость и силы, и подчеркнул, что, если она не защитит их тылы своим царственным величием, Египет добровольно переметнется к врагу. Это было красноречие отчаяния, но отчасти оно отражало истинное положение вещей. Александрия, как всегда, беспечная и ветреная, нуждалась в присутствии царицы, ее твердой руке — иначе, сорвавшись с места, она могла потащить за собой весь Египет.
Итак, Клеопатра предоставила Антония его поединку со Скарпом и возвратилась в свой город. Антоний достаточно скоро последовал за ней. Он наголову разбил Скарпа, но это не было настоящей победой; удовольствие от него поблекло и исчезло ещё до того, как она была одержана. Антоний опять погрузился в сумеречное состояние и уединился в башне в гавани, прихватив с собой виночерпия и едва ли не сотню кувшинов с вином. Оттуда он имел возможность любоваться и на город, который мог предать его, и на море, откуда явится Октавиан, чтобы уничтожить его. В приступе черного юмора он назвал башню Тимоний[98]: по-другому — Хандриловка или Брюзгополь.
Хныкалище — так предпочитала называть ее Клеопатра. Она ничуть не заразилась отчаянием супруга. Если Антоний не станет победителем или не заставит себя предпринять для этого хоть малейшее усилие, она все возьмет на себя. Царица смеялась над лживыми россказнями, которыми лазутчики из лагеря Октавиана регулярно потчевали ее. Клеопатра, как взахлеб расписывали слухи, предала своего любовника и сбежала из-под Акция. Ее любовник улепетывал следом, словно последний трус, каким он и был, бросив всех самых преданных союзников ради похоти к египетской царице. Канидий Красс, между тем, благополучно предал армию и тоже сбежал, а его воины отчаянно сражались до благородного поражения.
Ложь — все до единого; измышления мужчины, хилого и трусливого, но попавшегося на эту удочку из желания приписать себе все заслуги, получить весь мир. Клеопатра проклинала болтунов и злопыхателей. Она послала им послание, абсолютно в ее духе: объявила праздник в Александрии — вовсе не в честь поражения, как было на самом деле, но победы, которая еще впереди.
Все это она проделала быстро — слишком быстро, на взгляд тех, кто следил за событиями в Александрии. Диона не относилась к их числу. Она вернулась домой, где ее преследовало гулкое эхо пустоты, хотя дом был полон. За время ее отсутствия Тимолеон проявил себя отличной нянькой. Мариамна вернулась из храма, чтобы наконец-то обнять мать. На месте были ее рабы и слуги. Их радость вновь видеть свою хозяйку была огромной и неподдельной. И лишь один человек не встречал ее, один, который не вернется. Диона даже не знала, жив ли он, уцелел ли в бойне при Акции.
Одной ночи, проведенной на холодном и одиноком ложе, было достаточно, чтобы понять то, что ей следовало знать с самого начала: она не может оставаться в этом доме без Луция Севилия. Диона взяла с собой немного: свою служанку, маленькую дочь, ее няньку и совсем мало вещей — только необходимое для ребенка — и отправилась в храм Исиды. Здесь она и поселилась, уйдя с головой в повседневные обязанности и ритуалы — еще до того, как сыновья узнали, что их мать ушла из дома.
Уже живя в храме, Диона получила известие о празднике, устраиваемом Клеопатрой. Настало время, провозглашала царица, чтобы люди воочию убедились в том, что престолонаследие в Египте по-прежнему законно и непрерывно. И поэтому все приглашались на грандиозный праздник-ритуал, церемонию объявления совершеннолетия[99]: вступления в возраст мужчин двух царевичей — Птолемея Цезаря, царя Египта, и Марка Антония-младшего. Цезарион получал ранг и статус эфеба[100] — юноши на пороги мужской зрелости. Антилл получит toga virilis[101] — гордость мужчины-римлянина.
— О боги! Да она сошла с ума! — вырвалось у Дионы, когда ей принесли эту весть. Она все еще находилась во власти ритуала, который не дозволялось прерывать — чтения заклинаний для защиты Двух Египтов. От усталости у нее подкашивались ноги, она была зверски голодна. Больше всего прочего Диона нуждалась в еде, а потом — в сне, на добрые сутки.
Но медлить было нельзя, и Диона позволила Гебе, наконец, уговорить ее искупаться и перекусить. Влажная после купания, полуголодная — голод не утих от одной маленькой булочки, — она храбро вышла наружу, навстречу солнечному свету и толпам людей — на каждой улице, на всех перекрестках. Так бывало всегда: царица еще не успеет объявить о начале праздника, а простой люд сразу же узнает об этом и начинает колобродить, словно только и ждал повода повеселиться.
Напрасно она не отправилась в паланкине — и был бы такой солидный довод для расчистки пути, как носильщики, они же стражники, и внушительный вид. Одна, одетая как простая жрица, в сопровождении Гебы, Диона не вызывала особого почтения и в глазах горожан значила не более, чем лист в канаве. Она вынуждена была идти за толпой. К счастью, людской поток нес ее именно туда, куда нужно, конечно, не так быстро, как хотелось бы, но все же она понемногу продвигалась к дворцу — тем более что у нее не было птицы-феникса, несущей ее над давкой.
Когда показался царский дворец — еще такой досадно далекий и недоступный, — живое течение стало замедляться и уплотняться. Дионе и Гебе, державшейся поближе к своей госпоже, удалось кое-как протиснуться вперед. То там, то сям она замечала пустое пространство, потом перед ней открылся неправдоподобно длинный в такой толчее проход вдоль стены — но затем толпа сомкнулась даже плотнее, чем прежде.
Было ясно, что она опоздала. Но Диона упорно стремилась к цели. Она уже перешла ту грань изнеможения, за которой не существует ничего, кроме упрямства. Следовало добраться до Клеопатры, где бы та ни находилась.
Ей удалось пробиться лишь до ворот. Здесь, милостью богини, оказалось свободное место: несколько ступенек и колонна, за которую можно было ухватиться, когда Диона вставала на цыпочки, вытянув шею — чтобы хоть что-то увидеть поверх многоголовой толпы, набившейся в огромный внутренний двор.
В дальнем конце его высился помоет, возведенный на случаи праздников: там-то и была Клеопатра — в ослепительном блеске золота, на золотом троне. Цезарион сидел рядом; теперь его трон стоял вровень с троном матери. На царевиче были доспехи из чистого золота и плащ самого густого оттенка тирского пурпура. Диона не могла видеть его лица: оно расплывалось перед глазами из-за большого расстояния и слепящего солнечного света.
Перед царицей и ее сыном-царем стояли Марк Антоний в белой тоге и Антилл. Для Дионы было неожиданностью то, что мальчик оказался одного роста с отцом, хотя и не столь широким в плечах. Их лица были поразительно одинаковыми. Антилл в белой тунике стоял прямо и гордо, когда его отец произносил слова, которые Диона слышать не могла. Потом Антоний — с обязательным величием, характерным для всех римских церемоний — задрапировал на сыне тогу, ослепительно белоснежную, почти сияющую.
Этот свет ударил в глаза Дионы с такой силой, что они заслезились; взгляд застлал сплошной туман — марево белизны, золота и пурпура.
— Нет, — только и сказала она в отчаянии. — Ох, нет! Зачем ты сделала это? Как ты могла?
Те же слова Диона повторила и Клеопатре — много часов спустя. К тому времени она уже окончательно перешла за грань усталости, которая теперь каким-то образом трансформировалась в бодрость: голова была ясной, и ноги больше не подкашивались. Она простояла у колонны всю церемонию, слушая речи, гимны, наблюдая ритуалы и увеселительные затеи. Наконец солнце стало клониться к закату, и толпа начала мало-помалу рассеиваться; постепенно люди двинулись в сторону города, обещавшего им массу развлечений и угощений за счет царицы. Сама царица пировала во дворце в окружении двора и, так как в тот же день ее сын и сын ее супруга официально стали мужчинами, налила им вина собственными руками, как служанка. Но это никого не обмануло. Присутствовавшие здесь знали, что, как и все мужчины, они были ее преданными рабами.