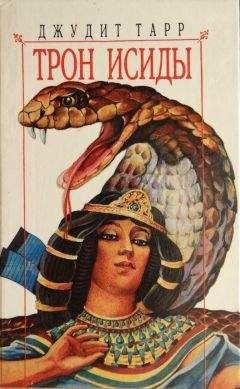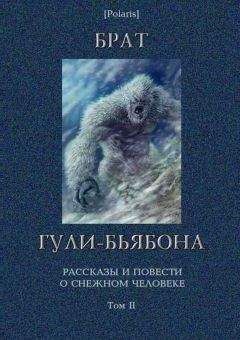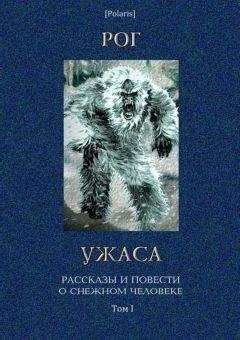Вдруг он вспомнил: когда Клеопатра приплыла в Тарс, часть его людей тоже дезертировала. Тогда он впервые ощутил жуткий груз одиночества. Но за этим последовала великая слава. Происходящее сейчас было лишь жалким подобием, пародией, насмешкой.
Он хлестнул жеребца и снова понесся вперед — прямо к войску Октавиана. Легионеры не двинулись, не издали ни звука.
— Эй, там! Вы ослепли? Оглохли? — среди мертвой тишины голос его прогремел подобно грому. — Дайте мне бой!
Молчание… Даже глаза не вспыхнули из-под тусклых шлемов.
— Трусы! Подлые лизуны задов! Поедатели дерьма! Жалкие трусы! Выползайте на бой! Сражайтесь!
Никто из них не выйдет — это было ясно как день. Антоний мог броситься на их копья, бесноваться сколько угодно, — они глазом не моргнут.
— Нет, — сказал он. — Нет, это слишком просто.
Он развернул коня и погнал к своему лагерю.
Все воины ушли, но рабы были на месте. Они стояли возле шатра и высматривали своего господина, а когда тот подъехал, пошли навстречу. Антоний остановил разгоряченного коня, и губы его скривила улыбка.
— А вы не боитесь упустить свой главный шанс на спасение? Дуйте отсюда быстрее — другого не будет. Вы погибнете, и очень скоро. Так умрите, по крайней мере, на правильной стороне.
Большинству из них не нужно было повторять, они рванули в сторону лагеря противника, далеко обегая его стороной, словно он мог проткнуть их, бегущих, мечом. Даже сейчас, парализованный полным отчаянием, Антоний ощутил горечь и скорбь.
Но двое не сдвинулись с места. Один из них был его рабом-телохранителем по имени Эрос, другой — евнухом царицы. Антоний только теперь его заметил. Он спрыгнул с коня и отпустил его на все четыре стороны. Тот немножко побродил вокруг, потом словно вздохнул, нагнул голову и стал щипать траву.
— Ну? — обратился Антоний к евнуху. — Ты принес от нее послание?
— Да, мой господин, — ответил тот, дрожа. — Я имел в вреду… нет… мой господин… она…
По лицу этого существа он понял: случилось то, чего он больше всего страшился. Но ему нужно было услышать.
— Что? Чего она хочет?
— Она… — евнух давился слезами. — Господин, она не может… она мертва.
— Ты что-то путаешь, — сказал Антоний совершенно резонно. — Как она может быть мертва? Она еще далеко не все потеряла. У нее по-прежнему есть Египет.
— Мой господин, царица умерла. Она сказала… она велела передать тебе… смерть лучше, чем Октавиан.
Антоний стоял неподвижно. Да, она говорила так и раньше: жестикулируя, не упуская возможности вставить шпильку по поводу его влажных губ, липких рук и хилого мужского предмета — ничем таким Антоний похвастаться не мог.
Как похоже на нее: мгновенно принять решение и тут же осуществить. Как похоже на нее: расстаться с жизнью, чтобы не видеть поражения своего господина или того, как его место займет Октавиан — на ее ложе и троне.
Совершенно опустошенный и невероятно спокойный, Антоний произнес:
— Ты — как бы тебя ни звали… Возвращайся во дворец. Там безопасней.
Он не стал ждать ответа и даже не взглянул, послушался ли его евнух.
— Эрос, пойдем со мной.
Эрос, преданный слуга, беззвучно плакал. Антоний хлопнул его по плечу.
— Ну, ну, хватит. Перестань. Зайдем в шатер.
Внутри было сумрачно, но свет пробивался сквозь откинутый полог. Все знакомые вещи находились на привычных местах: стол для карты, походные стулья, походная кровать в алькове, вешалка-столбик для доспехов. Парадные, золотые, Антоний хранил во дворце: здесь он держал то, что было действительно нужно для боя — доспехи и оружие, изготовленные специально для употребления по назначению. Он отстегнул меч и повесил на место.
Эрос потянулся к застежкам панциря. Антоний остановил его.
— Нет, не надо, — сказал он и, вытащив из ножен короткий меч, протянул рабу. Рука его дрожала не больше, чем голос:
— Держи. Убей меня.
Эрос уставился на него, как безумный.
— Мой господин…
Антоний сунул ему рукоятку меча и резко сжал вокруг нее пальцы Эроса.
— Бей! Ты знаешь как. Я показывал тебе… достаточно часто.
— Нет! — Эрос рыдал в голос. — Мой господин… господин мой Антоний… прошу тебя…
Антоний ударил его по лицу.
— Бей, Гадес тебя забери!
Внезапно Эрос стремительно нагнулся, воткнул рукоятку в плотно утоптанную землю и упал на меч, вернее, рухнул — и изумительно точно.
Но умер он не сразу. Кровавая рвота хлынула из его горла.
— Проклятие! — глухо простонал Антоний. Глаза его иссушающе горели. — Проклятие!
Конвульсии Эроса стихали, стоны смолкли. Вонь дерьма была внезапной и не оставлявшей сомнений. Антоний закрыл своему рабу глаза, кляня его преданность — идиот, ну почему он не мог убить себя, сначала убив хозяина?
Меч глубоко засел в теле Эроса. Антоний попытался вытащить его, дернул — но без успеха. Наверное, клинок где-то застрял, может быть, между ребер или в хряще. Антоний взял другой меч. Он не особенно нравился ему, хотя и был даром Клеопатры. Рукоятка блестела, мерцая камнями и золотом.
«Ничего, — сказал Антоний себе или богам. — Я сумею». Он вытащил меч из ножен. Движения его были медленными — но не от слабости или нерешительности. Во тьме ночей он подумывал об этом давно, еще до Акция. Теперь он знал, как сведет счеты с жизнью — не самым легким способом, отдав приказ рабу заколоть его, а так, как поступают люди чести. Как Брут и Кассий при Филиппах. Тем самым они искупили свою вину за убийство Цезаря.
Круг замкнулся. Счел бы Брут себя отмщенным? Кто знает… Но вот Октавиану наверняка покажется, что над ним посмеялись, оставили с носом, не дали поторжествовать, позлорадствовать, упиваясь чужими несчастьями — а он это очень любил…
Тем больше причин не колебаться. Надо разом покончить со всем. В конце концов, без Клеопатры Антоний — ничто. Она была Египтом, и с ее смертью он потерял все его богатства, житницы, корабли и матросов.
Но прежде нужно все как следует подготовить.
Сначала Антоний снял доспехи — чтобы было легче и проще. Потом постелил на землю плащ, чтобы не пачкать прекрасный египетский ковер — еще один дар Клеопатры. Помедлив лишь мгновение, он воткнул в землю меч, как это сделал Эрос, внимательно проследив угол наклона клинка. Ему приходилось видеть лица мужчин, умиравших так. Но никогда, никогда прежде он не замечал боли и не думал о ней.
Он нагнулся. Острие клинка коснулось груди чуть пониже сердца. Ах, да… надо ведь что-то сказать… Пяток умных фраз… Или помолиться. Но кто будет слушать? Конечно, не боги. Они смеялись над ним, а за смехом молитв не услыхать.
Антоний слегка пожал плечами, подчинил воле ума уязвимое тело, стиснул зубы — и упал.
Боль была ослепляющей, затопляющей, невероятной. И не кончалась. Похоже, она никогда не кончится. Кровь, повсюду кровь… Ноги и руки его онемели. Но душа упрямо цеплялась за тело.
— О боги! Добрые милосердные боги!..
Антоний повернул голову — словно повернул вспять мир.
Какой-то мужчина стоял над ним, не в силах отвести глаз, и казался таким потрясенным, что Антоний готов был засмеяться. Но даже вздох нес в себе боль, ох, боги, какую же он нес в себе боль!
Мужчина упал на одно колено. Антоний скосил глаза. Имя всплыло в мозгу не сразу.
— Диомед! Пришел пригласить меня на погребение?
Секретарь царицы охнул.
— Силы небесные… о чем ты?.. Мой господин! Ох, она будет горевать… как она будет горевать, владычица обезумеет от горя, увидев тебя… такого…
Антоний нахмурился.
— Клеопатра мертва.
Диомед так сильно затряс головой, что, казалось, она вот-вот оторвется.
— Мой господин, царица жива! У нее все хорошо — но она скорбит, так скорбит… а когда узнает об этом…
— Итак, гаденыш солгал… — На сей раз Антоний даже не пытался засмеяться — рассудок чуть не затопила тьма. Да, евнух солгал, заставил его броситься на меч, умереть.
Немилосердные боги сохранили ему ясность рассудка, чтобы он мог услышать слова Диомеда:
— Она жаждет видеть тебя, ждет тебя, хочет, чтобы ты поскорее вернулся. Ох, спасибо богине, я взял с собой двух сильных рабов. Царица велела им охранять меня от врага… Ох, боги!.. нам нужны носилки… и зачем носилки… как бы мы положили тебя на них… боги, боги!.. что же нам делать?!
Диомед всегда был паникером и нытиком, но при этом четко выполнял свои обязанности. Носилки нашлись, подняться на них с пола было истинным подвигом — большим, чем стойкость и сила духа Антония могли бы вынести. И никто бы не вынес. Можно было кричать или потерять сознание. Из гордости он выбрал последнее.
Клеопатра проводила Антония в предрассветной тьме. Ее господин уже потерял надежду на победу, и она это знала. Но он умел вести себя достойно — и так и будет. А ее дело — ждать. Царица дала себе клятву, что сбережет себя и детей.