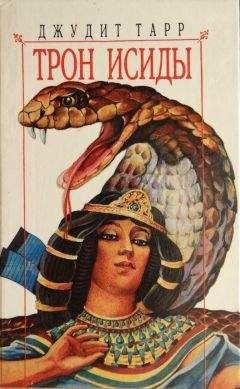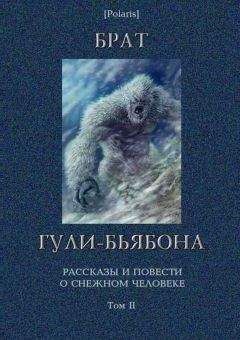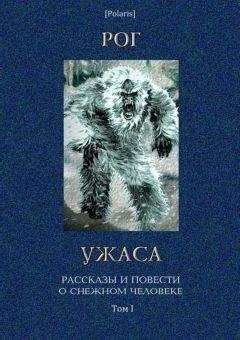Ворота захлопнулись, и ремесленники заработали проворными руками, быстро замуровывая обитателей убежища за стенами из известняка. Но окошко оставалось на месте, и она взглянула наверх. Уже брезжил рассвет, бросая слабый, неокрепший свет на недостроенную галерею, на леса, покрывавшие ее, которые, может статься, так никогда и не будут сняты.
Клеопатра побрела к стулу, очень похожему на трон; на нем горкой лежали подушки, и рядом стояла резная раззолоченная скамеечка для ног. Гермиона принесла вина. Царице не хотелось пить, но она жестом приказала подать чаши всем остальным. Пить, однако, никто не стал. Диона по-прежнему сидела тихо; ее темнокожая служанка стояла позади нее, Клеопатра знала, что дочь Дионы — Мариамна — была в безопасности, в храме Исиды: случись что, жрицы защитят ее ценой собственной жизни.
Она почувствовала мимолетный острый укол зависти. Все ее дети были далеко, даже Антилл, которым она дорожила, словно он был ее кровным сыном. Когда детей привели прощаться, Антилла среди них не было, и она даже не представляла, где он сейчас, только надеялась, что с отцом. А может, он пытается выбраться отсюда сам, своими силами. Ему тоже грозила опасность: живой царственный сын Цезаря не устраивал Гая Октавия, но к подросшему наследнику Антония он вряд ли будет милосерднее.
— Он жив, — сказала Диона, словно прочтя мысли царицы; ее мягкий голос казался немного потусторонним и легким эхом отдавался в ушах. — Желая поберечь твои слезы, Антилл остался в своей комнате. Он просил передать тебе, что у него все в порядке и дальше будет так же. В конце концов, он римлянин. Октавиан не станет преследовать его за верность своему отцу.
— Эта бестия? — с сомнением произнесла Клеопатра.
Диона наклонила голову. Все остальные не вымолвили ни слова, и Клеопатра предпочла это вынужденное молчание намеренно веселой болтовне — пустой разговор был бы еще хуже.
Свет в окне начал крепнуть. Луч солнца ударил в комнату, медленно пробираясь по стене.
Сразу после полудня тень закрыла свет. Голос снаружи позвал:
— Владычица?
Уже через секунду Клеопатра вскочила на ноги.
— Владычица, — повторил голос Диомеда, страннонапряженный. — Твой господин вернулся.
Клеопатра никогда не слыхала, чтобы Диомед говорил столь лаконично, таким невыразительным тоном, без аффектированных трелей красноречия или жалоб. Ее сердце, оказывается, вовсе не очерствело и не превратилось в камень — на мгновение оно остановилось и похолодело.
Наверху послышалась возня, голоса, нарочито спокойные, потом пыхтенье и проклятия — человек лез сквозь маленькую дырку окошка. Крупный мужчина… но в конце галереи показался не Антоний, а Диомед. Что-то проскользнуло сквозь отверстие — длинное и плоское.
Клеопатра охнула. Носилки… его несли на носилках!
Она застыла неподвижно, глядя вверх, на галерею, а двое рабов спускали носилки вниз. Под накинутым сверху военным плащом Антоний казался каменным: упругие, всегда пышущие здоровьем щеки осунулись, румянец уступил место зловеще-сероватой бледности.
Но он был жив. На лбу блестел пот — свежий и холодный. Лихорадка? Антоний стал жертвой болезни? Он ведь не сражен ударом меча?
Клеопатра дотронулась до его щеки. Попытавшись приподнять голову, он усмехнулся, но улыбка его больше походила на гримасу.
— Мне сказали, что ты мертва. — Голос был таким же изнуренным, как и лицо.
— Тебе солгали, — быстро ответила Клеопатра и провела по его лицу рукой. Кожа была очень холодной. Она вздрогнула, ощутив этот холод, пробравший всю ее, все тело и разум, и ее убийственно-живой ум сказал ей, что он с собою сделал.
Клеопатра сорвала плащ с его тела. Антоний был без доспехов — первое и последнее, что она заметила. Все остальное представляло собой кроваво-красное месиво, и это было почти невозможно разглядеть и осознать.
Но она пересилила себя и взглянула внимательнее. Они пытались его перевязать. Это ненадолго отодвинуло конец, хотя бы на какое-то время, чтобы донести его к ней живым. Бинты были насквозь пропитаны кровью — разбухли от крови. Клеопатра надеялась, что внутри у него все онемело и боль не терзала его.
— Ох, какой же ты дурак! — воскликнула она. — Безмозглый, порывистый дурак.
Антоний кивнул — с выражением, слабо напоминающим раскаяние:
— Наверное, надо было подождать. Уйти вместе с тобой. Но тогда это казалось мне бессмысленным. Было ясно сказано — и что я должен был подумать?.. я подумал, что ты меня опередила.
— Но ты же знаешь, я бы никогда так не сделала.
— Правда? — Он негромко кашлянул, но тело его мучительно напряглось от боли. Он пробормотал проклятие, переросшее в команду. — Вина! Дайте мне вина.
Вина ему принес Мардиан, евнух царицы; он поднес чашу к губам Антония и бережно держал ее, пока тот пил. Выпил он немного. Мардиан отнял чашу от его губ и унес. Гладкие щеки евнуха были мокры от слез.
На этот раз Антоний закашлялся сильнее, и адская боль скрутила его.
— Черт возьми, госпожа, — произнес он, когда смог говорить. — Я умираю.
Это прозвучало раздраженно, и лишь на мгновение в голосе мелькнул страх. Остальное было сказано быстро, даже слишком быстро и почти неразборчиво.
— Послушай меня. Позаботься о себе. В окружении Октавиана есть один человек — мы с ним не были друзьями, но на него можно положиться. Прокулей. Гай Прокулей. Попроси его помочь тебе.
— Я и сама могу себе помочь, — отрезала Клеопатра.
Антоний покачал головой.
— Упрямая, да? До конца? А конец-то наступил, представь себе. Вот он какой… А я иногда думал, что мы бессмертны.
— Во всем, что имеет значение, — сказала она твердо, — так и есть.
Антоний ощупью нашел ее руку. Глаза его угасали, пальцы стали ледяными, но он все же нашел в себе силы поднести ее руку к губам.
— Ты всегда была великолепна. Я… что ж, я просто старался.
— Этого было достаточно, — вымолвила она.
Он улыбнулся.
— Поцелуй меня.
— Неугомонный, — горько, скорбно сказала Клеопатра, но нагнулась к его губам, таким же холодным, как и руки. Дыхание его было странно благоуханным, с ароматом специй. «Мирра, — подумала она машинально и отстраненно, с окаменелостью безысходного, запредельного горя. — Мирра для усопших».
Души уже отлетали от него, одна за другой: шорох крыльев, шепот воздуха, дыхание, смешавшееся с ее дыханием… Антоний вздохнул, слегка содрогнулся и умер.
Медленно, очень медленно Клеопатра выпрямилась. Ее сердце — которому полагалось быть опустошенным — было полно. Антоний заполнил его. Царица поднесла пальцы к губам. Холодные — но под этим холодом билось тепло жизни.
— О, мой повелитель, — промолвила она тьме и сиянию золота в ней. — Цезарь был чудом света; но ты… мой повелитель, ты… тебя я любила.
Антоний мертв.
Это казалось совершенно невероятным, словно рухнувшая гора или смерть бога. Клеопатра страдала самозабвенно, упоенно; экзальтация ее достигла того уровня, при котором горе меняет обличье на дерзость и вызов. Именно такого результата пытались достичь трагические актеры всех времен, но тщетно — здесь требовалась тонкая грань правды и души царицы.
Клеопатра медленно обернулась. Она была в полном, ясном рассудке, какой бывает только у сумасшедших.
— Диона… — Голос звучал неимоверно вежливо и безжалостно. — Дорогая сестрица и друг, умоляю тебя — исполни мое поручение.
Против ее ожидания, Диона ничего не спросила — она не хотела услышать имя.
— Иди к победителям, — продолжила Клеопатра. — Иди к человеку, которого назвал Антоний. Не к тому, кто величает себя Цезарем; к другому — к Прокулею. Скажи ему, что владычица Двух Земель желает говорить с ним.
Диона замешкалась, гадая, что может случиться за время ее отсутствия. А если Клеопатра просто пытается избавиться от свидетелей? Глаза ее — потемневшие, но лихорадочно-яркие — не сулили ничего хорошего.
Но царица пообещала:
— Я не убью себя, пока не увижу этого человека. Приведи его ко мне.
Диона поклонилась, не слишком низко — как сестра кланяется своей царственной сестре.
— Слушаюсь, владычица, — сказала она.
Диона без труда вылезла из окошка и спустилась вниз вместе с Гебой, охранявшей ее с тыла. Строители оставили леса и веревочную лестницу. Удивительно, что никому в голову не пришло обчистить гробницу раньше, до того как царица замуровала себя в ней. Хотя, конечно, сокровища охраняла стража, да и суматоха, отчаяние, уныние, в которые повергли всех войска противника, уже подступавшие к городским стенам, помешали возможным грабителям.
Теперь все эти войска слились в одну великую армию, и она маршем вступала в Александрию. Город не делал ни малейших попыток сопротивляться. Армия победителей была огромной. А город, как с горечью подумала Диона, был слишком измучен войной и подавлен тем, что боги отреклись от него. Только глухой или покойник мог не слышать ухода Диониса.