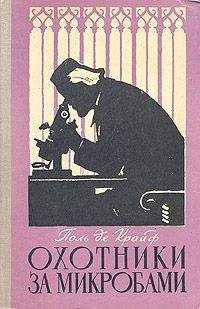Татьяна Корсакова
Паутина чужих желаний
Воровать нехорошо.
Нет, это не мамины слова. Моя мама сказала бы: «Бери, Евка, все, что плохо лежит, потому что за просто так тебе никто ничего не даст». Это я сама для себя решила, что воровать нехорошо. Но уж больно безделица занятная: не пойми из какого металла цепочка, а на ней – красный камешек, тоже мне неизвестный. Безделица, наверное, – простая бижутерия, копейки стоит. Если б вещь была дорогой, разве ж стала бы эта курица щипаная ее в кармане пальто таскать! Она б ее на шею надела или на худой конец, в сумочку положила бы, а не в карман. Значит, не очень и нужна безделица-то...
Она упала прямиком в лужу, а курица и не заметила, пытаясь в зарядившей с самого утра мелкой измороси рассмотреть приближающийся автобус. Чтобы достать безделицу, мне пришлось совершить подвиг: стащить с руки перчатку, а руку сунуть в ледяную и наверняка кишащую микробами воду. Безделица обнаружилась сразу, словно меня и ждала, обернулась вокруг замерзших пальцев, приласкала неожиданным теплом. Странная вещица, у меня с детства нюх на такие, и не бижутерия (нечего совесть успокаивать) – старинная работа, изящная. Пожалуй, надо пропажу вернуть законной владелице...
Надо, да вот только не получилось: рука с цепочкой сама потянулась к шее, щелкнул крошечный замочек, кожу на груди, там, куда нырнул камешек, что-то больно царапнуло. Все, у безделицы теперь новая хозяйка!
А курица эта, Маша-растеряша, уже на всех парах летела к притормаживающему у тротуара такси. На автобусах мы, видите ли, ездить непривычны, нам такси подавай. Да что это я, в самом деле?! Я ж и сама на автобусах уже лет пять не ездила, все больше на своей машине или в крайнем случае тоже на такси. Тем более что погода мерзостная, хоть и весна на дворе. С такой весной и осень не нужна. А маршрутки все как одна катятся в ненужном направлении, и холод собачий.
Маша-растеряша вскочила в такси мгновением раньше меня, плюхнулась на заднее сиденье, с облегчением вздохнула. Ишь, какая прыткая!
– Занято, красавица! – Водила, дяденька ярко выраженной кавказской национальности, взглянув на меня, тоже вздохнул, но с явным сожалением. Дяденьке, наверное, приятнее катать по городу длинноногих брюнеток стервозной наружности, чем вот такую невзрачную особь.
– А может, нам по пути? – спросила я, усаживаясь рядом с Машей-растеряшей.
– Мне на Калинина, – сказала та с виноватой улыбкой.
– Вот и мне на Калинина!
Это ж надо какое совпадение! Я успокоилась и стала разглядывать соседку. Сдается мне, что она из тех, кто готов безропотно уступить место ближнему своему, протянуть руку помощи, подставить левую щеку, перевести бабульку через дорогу – в общем, девица из нестройных и плохо организованных рядов идиоток-идеалисток. И выглядит соответствующе: пальтишко мышино-серое, волосенки мышино-серые, глаза тоже, косметики никакой. Хотя оправа очков роскошная – серебристая и изящная, да толку с той оправы, если стекла в ней толщиной с пол моего пальца! Ох, не повезло девке, такую и обманывать как-то совестно.
В душе шевельнулась непрошеная жалость, но я задушила ее на корню. Нечего всяких жалеть! Меня никто не жалел. Не отдам безделицу, ни за что не отдам! Что упало, то пропало...
– Эй, красавица! – Водила обернулся, огладил меня взглядом маслено-черных глаз, одобрительно поцокал языком. – Может, са мной сядэш? А я с тэбя денег мала-мала возьму.
«Денег мала-мала» – это, конечно, хорошо, да вот только не люблю я ездить на переднем сиденье. Я осторожная и статистику ДТП знаю, поэтому сажусь исключительно сзади, аккурат за водителем. Но там сейчас Маша-растеряша притулилась, придется, значит, посередке.
Кожу снова что-то царапнуло, на сей раз больнее, чем раньше. Да что же там так царапается-то, черт возьми?! С виду камешек был гладкий, без зазубрин, и оправа у него тоже гладкая. Может, это не камешек царапается, а совесть моя, еще не до конца убитая? Ладно, доскачу до автосервиса, возьму свою машинку, приеду домой и там разберусь: совесть это или что другое.
А водила нам с Машей-растеряшей попался ужасный. Мало того что болтливый – ни секунды тишины, – так еще и лихач.
– Вай, красавица, что за город – адны пробки, никакой тэбе скорости! Вот у меня дома, – он опять обернулся и подмигнул мне чернильным глазом, – вот у меня дома – это скорость! Я бы тэбя, красавица, вмиг до мэста даставил. – И тут же без перехода: – А к кому такой жэнщын роскошный едэт?
– За дорогой следи, дядя! – Вообще-то я не хамка и без лишней надобности людям не грублю, но уж больно водила приставучий. Не люблю таких.
– Вай, такой красивый жэнщын и такой злой! – Водила и не думал обижаться. Кстати, за дорогой он по-прежнему не следил, на меня пялился: то в зеркальце заднего вида, то, как сейчас, развернувшись к нам всем корпусом. Вот ведь урод!
– Останови машину! – Мне моя шкура дорога, я с этим камикадзе больше и метра не проеду, пусть с ним Маша-растеряша катается, ей, похоже, все равно...
Не остановил, запричитал что-то возмущенное на своем тарабарском языке, вместо тормоза, козлище, нажал на газ.
Сначала я почувствовала, как машину занесло, потом услышала истошный визг соседки и уже после этого сподобилась глянуть в окно. Лучше бы не смотрела...
Здоровенный джип шел юзом – прямо на нас. И от этого неуправляемого снаряда наш водила пытался уклониться...
Я не испугалась. Не потому, что такая смелая – просто не успела. Успела только подумать: «Ну все, кранты...»
И кранты случились... Свет мигнул и погас. Черепную коробку разорвал сначала крик, потом боль.
А потом я умерла...
* * *
Приглашение от Ефима Никифоровича Вятского, старинного папенькиного приятеля, принесли еще третьего дня. Я, помнится, твердо решила не ехать. В обычные дни у Ефима Никифоровича скучно, из развлечений только вист да разговоры об охоте. В вист я играть не умею, охоту не терплю. Что ж мне там делать?
Я бы и не поехала, сослалась бы на мигрень, провела бы день за книгой или за вышивкой, если б не мадам. Мадам велит называть ее маменькой, смотрит ласково, а в глазах лед. Сколько лет прошло? Осенью, считай, шесть будет, как папенька ее в дом привел, ее и Лизи, а я все никак поверить не могу и привыкнуть.
Мадам красивая: кожа белая и гладкая, глаза цвета берлинской лазури, волосы каштановые, с отливом в медь, фигура... Про фигуру промолчу, скажу только, что не сыскать такого мужчины, чтоб на мадам не обернулся. А папенька из-за этой ее красоты страдает, дворня шепчется, что ревнует сильно. Ревнует, оттого и злой все время. Стэфа говорит, что с маменькой моей он другим был – добрым и веселым. Да я и сама помню. Бывало, посадит меня к себе на колени и давай щекотать, а когда у меня уже сил смеяться не останется, погладит по голове и скажет так ласково: «Ох ты, Сонюшка – свет в оконце!»