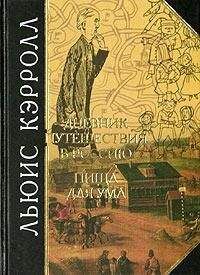Как только смолкли выстрелы и воцарилась тишина, стоявший рядом лейтенант Эстранжен произнес: «Вот дерьмо! Божьей помощи не дождались» Капитан велел ему заткнуться. Мы прислушались, боши успокоились. Вокруг снова было тихо.
Темнота казалась еще плотней. Люди в наших траншеях молчали, те, что напротив — тоже. Они прислушивались. Мы тоже. Лейтенант снова выругался. Капитан повторил — заткнись.
Четверть часа спустя, видя, что ничего не происходит, я решил, что мне пора догонять свою пехтуру. Я попросил лейтенанта расписаться на листе осужденных, как это сделал сам в списке драгунского фельдфебеля. Вмешался капитан, сказав, что офицеры не должны ничего подписывать в этом вонючем деле. Коль на то пошло, ради удовольствия я могу получить автограф сопровождавших эскорт капралов, если им угодно будет это сделать. Для чего мне это нужно, он может догадаться, но сие касается одного меня. Сам он подтирается шелковой бумагой. Заметив выражение моего лица, капитан потрепал меня по плечу и сказал: «Ладно, вы славный человек, сержант, я провожу вас до Оперы. Я давно не спал, а скоро понадобятся все мои силы. Надеюсь, вы выпьете со мной на прощание рюмочку доброго коньяку».
Горд и Шардоло подписали список, и мы ушли. Капитан провел меня в свой закуток. Без дохи и шерстяного шлема он показался мне куда более молодым, чем я думал, лет тридцати двух, но лицо было изможденное, с кругами усталости под глазами.
Мы выпили по две-три рюмки Он рассказал, что на «гражданке» был учителем истории, что ему претит быть офицером, что хотелось поездить по свету, увидеть залитые солнцем острова, что он так и не женился потому, что баба была дурой, но к его чувствам и все такое это не имеет отношения. Заурчал телефон, его майор интересовался, как все прошло. Он ответил телефонисту: «Скажи этому господину, что меня не нашел, пусть помается до утра».
Потом он рассказал про свою юность, проведенную, кажется, в Медоне, и про марки. Я так устал, что слушал его вполуха. В этом закутке я опять почувствовал, будто нахожусь вне времени и пространства. Я постарался взять себя в руки. А тот, что сидел по другую сторону стола, с увлажненным взором говорил о том, как ему стыдно — он изменил тому мальчугану, каким был прежде. Как он скучает по долгим часам, проведенным за альбомом с марками, как его завораживало изображение королевы Виктории на блоках Барбадосских островов, Новой Зеландии и Ямайки. Веки его смежились, и он умолк. Потом прошептал: «Виктория Анна Пено. Именно так». И, положив голову на стол, уснул.
Я шел по грязи, в темноте сбиваясь с пути так, что пришлось спрашивать дорогу у находившихся в траншеях солдат. Я нашел Боффи и остальных в условленном месте. Мы разбудили спавших. Всех, естественно, интересовало, что было после их ухода. Я ответил, что им бы лучше вовсе забыть этот день.
Мы еще долго шли через Клери и Флокур до Беллуа-ан-Сан-терр. Алкоголь из головы выветрился. Мне было холодно. Я думал о пятерых осужденных, лежащих в снегу. В последнюю минуту им дали какую-то одежонку и мешковину для ушей, а тому, у которого не было перчатки на здоровой руке, Селестен Пу, Гроза армий, отдал одну свою.
К пяти утра мы добрались до наших. Я немного поспал и к девяти явился для доклада к своему майору. Вместе с денщиком он как раз рассовывал по ящикам папки с бумагами. «Все сделали как надо? — спросил он. — Отлично. Увидимся позже». А так как я настойчиво старался вручить ему лист, подписанный Гордом и Шардоло, он тоже посоветовал мне, как им надо воспользоваться. Прежде он никогда не грубил. Сказал, что через пару дней ожидается передислокация, нас сменят англичане, а мы отойдем к югу. И повторил; «Увидимся позже».
В нашей роте тоже начали собирать пожитки. Никто не знал, куда нас перебрасывают, но ходили упорные слухи, что где-то южнее — в Уазе или Эсне — готовится что-то невиданное и что для такого дела сгодятся даже деды.
В семь вечера, только я набил рот едой, меня вызвал к себе майор. В своем уже совсем пустом, освещенном одной лампой кабинете он сказал: «Утром я не мог с вами говорить в присутствии третьего лица. Поэтому я вас оборвал». И указал на стул.
Предложил сигарету, — я взял, — дал прикурить. А потом я услышал от него то, что уже сам сказал своим людям: «Забудьте все, Эсперанца. Все — вплоть до Угрюмого Бинго». Взяв со стола бумагу, он сообщил, что меня переводят в другую роту, располагавшуюся тогда в Вогезах, что мне присвоено звание старшего сержанта, что если буду таким же старательным, то смогу рассчитывать на новое повышение еще до того, как расцветут цветы.
Майор встал и подошел к окну. Это был здоровенный мужчина, совсем седой, плечи — косая сажень. Сказал, что его тоже переводят, но без повышения, а также капитана и всех десятерых из моего эскорта. Я узнал, что Боффи поедет на тыловую стройку. Там вскоре стрела крана отправит его к праотцам. Нас разбросали со знанием дела. Впоследствии в Богезах я встретился с капитаном.
Я все мялся, не зная, как спросить о том, что тяжестью лежало на сердце. Но майор и сам понял: «Там уже несколько часов как идет бой. Сообщают, что убит лейтенант и еще человек десять. Рассказывают о каком-то сумасшедшем проповеднике, распевающем „Пору цветения вишен“ [эта песенка шансонье прошлого века, активного участника Парижской коммуны — Жана-Батиста Клемана — своеобразная визитная карточка Коммуны], о том, что кто-то скатал Снеговика, о сбитом гранатой аэроплане. Это все, что мне известно. С ума сойти можно!»
Я вышел из дома священника, в котором жил майор, с гадким привкусом во рту. В сердцах даже сплюнул, не заметив, что нахожусь перед самым кладбищем, где под простыми крестами были похоронены той осенью многие наши товарищи. Кресты делали в соседней роте. И подумал: «Они не рассердятся. Ведь я плевал на войну».
К ним подходит писавшая Матильде монахиня. Одета во все серое. Сердито выговаривает Даниелю Эсперанце: «Сейчас же наденьте халат. Иногда мне кажется, что вы притворяетесь больным».
Она помогает ему натянуть бледно-синий халат, застиранный почти до такого же цвета, как платье монахини. Он достает из кармана пакетик и отдает Матильде: «Рассмотрите эти вещи дома. Я не выдержу, если вы сделаете это сейчас».
По лицу его снова текут слезы. Монахиня Мария из Ордена Страстей Господних восклицает: «Да будет вам. Чего вы снова плачете?» И тот отвечает, глядя на Матильду: «В тот день я совершил великий грех. Я верю в Бога, когда меня это устраивает. Но знаю — это грех. Мне не следовало тогда выполнять приказ». Сестра Мария пожимает плечами: «Как же вы могли, несчастный, поступить иначе? В вашем рассказе я увидела только один грех — лицемерное поведение властей».