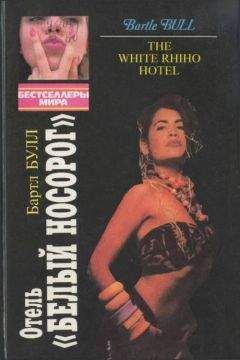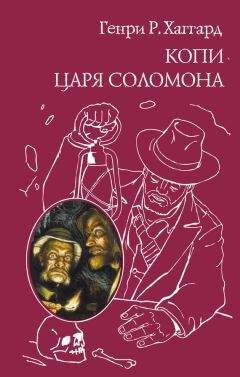Подобно Алану, почти каждый европеец в Найроби оставил родной дом и пустился за тысячи миль в надежде обрести клочок земли в Восточной Африке. По слухам, в Кении не было ни одного предприятия, фермы или плантации, которые бы не зависели от расклада в сегодняшней лотерее, где разыгрывался первый миллион акров «земель Британской короны». Если прибавить пять миллионов акров, уже официально переданных европейцам, к концу лотереи пять процентов плодороднейшей кенийской земли будут заселены белыми.
Для африканцев ставки также были высоки. Годами крупные племена вели между собой войны. Одни, как масаи, пользовались поддержкой со стороны белых; другим — например, вандоробо и вальянгулу — приходилось рассчитывать на свои силы. Малочисленные, разобщенные вандоробо довольствовались сбором меда и выслеживанием дичи в густых бамбуковых и кедровых рощах и не нуждались в признании. Неутомимые жилистые вальянгулу — прекрасные стрелки из лука и искусные охотники на слонов — также старались сохранять дистанцию. Найроби был для них таким же чужим, как Лондон. Сторонясь белых и не интересуясь их планами, кочевые племена придерживались своих традиций, не всегда отдавая себе отчет в том, что в ближайшем будущем они могут лишиться значительной части своей территории. Объявив эти земли необитаемыми, англичане не приняли в расчет интересы кочевников.
Одни лишь кикуйю поняли правила игры. Наделенные большей гибкостью, знающие свою выгоду, всегда готовые работать на белых землевладельцев и промышленников, они больше других выигрывали от принесенных европейцами мира и духа предпринимательства. Десятилетиями их грабили и гоняли с места на место более воинственные племена; нанди и масаи жгли их хижины, уводили с собой детей и домашнюю скотину. И теперь кикуйю, подобно вождю Китенджи и его племени, селились на принадлежащих европейцам землях при условии, что они будут не только работать на хозяина, но и возделывать собственные участки. Впервые за многие десятилетия они почувствовали себя в безопасности.
Этим утром группа кикуйю, собравшись в кружок у небольшого костра, мирно подтрунивала над «зловонными» масаи. Если повезет, у извечных врагов кикуйю отберут ворованную землю.
Взошло солнце; вдоль улицы протянулись длинные тени. Двое фонарщиков начали гасить масляные лампы у входа в государственное здание. Очередь к Королевскому театру росла и привлекала всеобщее внимание. Сюда начали сходиться зеваки, группируясь по расовому и племенному признакам. Торговцы-арабы предлагали слоновую кость и серебряные брелоки. Индийские купцы посылали к стоящим в очереди слуг с чаем и печеньем на медных подносах. Верхом на зебре явился первый фотограф Найроби; сзади трусил помощник с тяжелой камерой. Репортеры из «Восточно-африканского штандарта» и «Ассошиэйтед пресс» расплачивались за интервью напитками. Они называли предстоящую лотерею величайшей — после броска на Оклахому — сделкой с недвижимостью.
Седобородый писарь-сикх, которому чалма придавала величественный вид, поставил свой стол под палисандровым деревом, удобно расположив на нем письменные принадлежности. Заказчик, которому понадобилось написать родственникам в Бомбей, склонился над стариком и оперся локтем о стол, закусив нижнюю губу и подперев ладонью подбородок. Потом воздел глаза к небу и начал диктовать нечто выспренне-лирическое: ученый индус поправит, если что не так.
Все оживились, когда к голове очереди проследовали четыре женщины — единственные представительницы слабого пола, допущенные к участию в лотерее. Эти женщины служили в Добровольных санитарных частях — как Гвенн Луэллин, перевозили раненых. Огрубевшие от непосильной работы, привыкшие под артобстрелом сражаться с перегруженными «рено» и «фордами», а по прибытии на перевязочные пункты вытаскивать своих окровавленных пассажиров вперемешку с трупами, эти женщины были достойны жизни в Африке.
Около девяти часов прибыл Джеймс Хартшорн в губернаторском автомобиле с опущенным верхом. Его сопровождали двое молодых секретарей из Министерства по делам заморских территорий. Они привезли с собой пузатый бочонок. Восемь черных констеблей в коротких, безукоризненно отутюженных брюках и сверкающих кожаных куртках заставили очередь перед двойными дверями театра посторониться. На чиновнике земельного управления были тесный полотняный костюм-тройка, галстук в полоску и тропический шлем.
— Простите, сэр, можно взглянуть на карту? — обратился к нему один солдат. Хартшорн не удостоил его ответом. Когда констебли захлопнули за ним двери, он осмотрел зал и с неудовольствием отметил, что в каждом окне за ним во все глаза наблюдают африканцы. В глубине зала расположилась узкая сцена. Считая кресла в ложах и бельэтаже, а также скамьи в партере и оркестровой яме, Королевский театр вмещал двести человек.
— Поставьте у двери несколько столов, — распорядился Хартшорн. — Требуйте от каждого, чтобы предъявил демобилизационное удостоверение и свидетельство из отборочной комиссии. Я не могу верить всем подряд. Эта шпана глазом не моргнет — убьет за клочок земли.
После проверки участники лотереи должны были по очереди подходить к установленному на сцене вращающемуся барабану. Проигравшим достанутся чистые карточки. Выигрышные были пронумерованы от одного до четырехсот: эти цифры указывали порядковый номер, под которым счастливчики будут выбирать участки из каталога, подготовленного ведомством Хартшорна. В каталоге указывались площадь угодий, высота над уровнем моря, арендная плата, технические характеристики и рекомендации по использованию. На выбор предлагались две альтернативы: «земледелие и скотоводство» и «выращивание льна или кофе». Никаких сведений об африканском населении и местных обычаях. Крупные племена уже получили свои резервации, а мелкие по-прежнему селились где попало.
Земельные участки разделили на две категории. Небольшие фермы площадью до ста шестидесяти акров отдавались даром, если не считать символической арендной платы: одна рупия за десять акров в год. Во вторую категорию вошли фермы покрупнее, по цене фунт стерлингов за три акра, или тринадцать рупий. Из тысячи трехсот ферм семьсот должны были распределяться по лотерее в Найроби, а остальные шестьсот — в Лондоне. Все участки сдавались в аренду сроком на 999 лет; владельцам вменялось в обязанность вкладывать средства в постройки и культивацию земли.
Алан Луэллин твердо решил претендовать на большую ферму. Перед этим ему пришлось пять дней вести изнурительный торг с жирным ростовщиком из Гоа Раджи да Сузой.