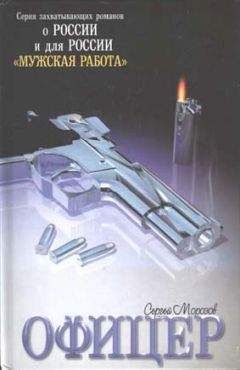— Пожалуйста, — попросил он, набрасывая ей на плечи вафельное полотенце, и нежно потер ладонью спину, — не отстраняйся от меня! Ты так неожиданно вошла в мою жизнь, что мне нужно какое-то время, чтобы отсечь прошлое.
Маша бросила на него быстрый взгляд. Кажется, он не понимает ее. Неужели он решил, что в ее реакции на его ответ — лишь неудовольствие или сомнение по поводу того, чтобы иметь в любовниках женатого мужчину? Впрочем, возможно, она чего-то недопонимает сама. Ей померещилось, что в его словах прозвучало желание, что именно она, Маша, должна изменить свою жизнь ради него. Но в том-то и дело, что, по ее мнению, ни он, ни она не готовы к тому, чтобы что-то менять в своей жизни ради кого бы то ни было.
Полковник поцеловал Машу, и ее влажная щека прижалась к его щеке.
— Я люблю тебя! — Эту фразу он повторял, словно заклинание. Неужели слова для него что-то значили? — И я не собираюсь с тобой расставаться.
Он надел носки, влез в свои камуфляжные штаны и зашнуровал тяжелые армейские ботинки. Одевшись, уселся в кресло и молча наблюдал, как Маша управляется с косметикой.
После недолгого размышления она наложила на веки зеленые тени — самую малость, чтобы не напугать телезрителей, а затем, наклонив голову, принялась расчесывать волосы. Наконец, резким движение отбросив волосы назад, она взглянула на себя в зеркало и с удовлетворением отметила, что вид у нее что надо — слегка шальной и бравый. Кроме того, ее кожа излучала то особое счастливое сияние, которого она не наблюдала уже Бог знает сколько времени и к которому, кстати сказать, так чувствителен телеобъектив. Последнее, что она сделала, это извлекла из сумочки очки в модной оправе и бережно водрузила их на нос. Теперь она была в полной боевой готовности.
— Тебе приходится носить очки? — поинтересовался наблюдательный полковник.
— В них простые стекла, — объяснила Маша. — Мне посоветовали появляться в них на телеэкране. Якобы это работает на мой имидж. Я в очках выгляжу не то интеллектуалкой, не то дурочкой. Харизма, словом. Это цепляет… Может, они и правы.
— Так значит… — укоризненно покачал головой полковник, и она вспомнила, что именно близорукостью оправдывала перед ним свою невнимательность.
Он встал и порывисто обнял Машу.
— И зачем ты только притворялась? Мы могли бы уже столько времени быть вместе!
Маша обернулась, чтобы взглянуть ему прямо в глаза.
— Зачем?.. Зачем?.. — восклицала она, колотя своими кулачками в его железную грудь. — Да затем, что все это время я еще могла быть свободной от гадкой и мучительной роли любовницы женатого мужчины! Вот зачем! — выпалила она.
— Даже не дав мне возможности… — вздохнул он.
— Ну ничего, ничего, — тихо проговорила Маша. — Теперь-то у тебя есть все возможности. Есть свобода действий. А вот у меня…
— Что? — снова вздохнул Волк, словно досадуя на собственную непонятливость.
* * *
…Когда Маша начала свой сегодняшний репортаж, находясь над той самой лощиной, где Рому Иванова разорвало пополам, она заметила неподалеку от телекамеры Волка. Упершись в бока крепко сжатыми кулаками, полковник внимательно следил за каждым ее движением. Между тем она уже решила про себя, что ни за что не будет произносить тех напыщенных гневно-пламенных слов, которые были заготовлены для нее начальством в качестве заупокойного комментария по поводу гибели звукооператора. В соответствии со сценарием ей полагалось скорчить на лице выражение оскорбленной журналистской невинности, которое, по мнению начальства, должно было способствовать возбуждению бури в кругах отечественной и зарубежной общественности. Между собой они называли подобные репортажи «ТАСС уполномочен заявить». Эдакая сухая и голая информация, горькая правда-матушка, скупые факты и цифры, за которыми телезритель должен был угадать большую человеческую трагедию. А главное, побольше металла в голосе и каменное лицо… Итак: нашего Рому разорвало гранатой. Вот они — бурые пятна на пыльных лопухах…
Вместо металла и камня, как, впрочем, и голой информации, объектив телекамеры уперся в распухшее от слез лицо Маши, которая вдохнула в себя побольше воздуха, чтобы начать репортаж, но говорить не смогла, а только молча смотрела перед собой, и из ее глаз ручьем полились слезы.
К Маше подскочил режиссер, безуспешно пытавшийся ее успокоить.
— Девочка моя, — завздыхал он, — ты можешь просто прочитать текст по бумажке, и этого будет достаточно. В крайнем случае, мы пустим это как сообщение по телефону.
— Я тебе не девочка, — еще спокойнее и злее сказала она. — Я женщина. А вы все — пни бесчувственные. Можешь засунуть себе свою бумажку сам знаешь куда…
У режиссера отвисла челюсть. Такой он Машу никогда не видел.
— …Я ни за что не буду читать по бумажке! — продолжала она.
— Бога ради, Маша! Пожалуйста! Если тебе от этого станет легче, — смиренно наклонив голову, сказал режиссер. — Но ведь нужно отработать этот сюжет, сама посуди…
Это было магическое слово: «отработать». Слыхали про собачек Павлова? Только слышат «отработать», так сразу отделяется желудочный сок. Это как: будь готов, всегда готов!
— Я готова! — вздохнула она.
Вокруг нее собрались все члены их немногочисленной съемочной бригады, а также официальные лица. Все искренне хотели сказать ей что-то нежное, умиротворяющее. Однако ей не требовалось никакого умиротворения. Но что бы ей ни говорили, она не станет изображать ни хрестоматийного чревовещания диктора Левитана, ни актуального пафоса своего «морганатического супруга» Александра Невзорова. Как, впрочем, не собиралась она подражать вообще кому бы то ни было. Она, Маша Семенова, — счастливица, которая добывала свой трудный журналистский паек в проклятом кавказском пекле и лишь чудом не оказалась на месте своего звукооператора, должна была поведать об этом самом всем бедным и богатым своей несчастной родины…
Она всматривалась в лица окружавших, и ей казалось, что на них написано одно и то же: «Слава Богу, мы не оказались на его месте…» Что же говорить о телезрителях, которые либо трескают перед экранами телевизоров свою священную колбасу, либо горюют об ее отсутствии. Господи святый Боже, кого Маша хочет взволновать?! Тех, кого нельзя взволновать, даже долбанув по ним из гранатомета?..
Нет, она не права. Ох как не права. Она несправедлива. Они действительно взволнованны, и ничуть не меньше.
— Маша, — сказал ей режиссер, — говори что хочешь, только не молчи. Мы обязаны сделать этот репортаж. У нас очень мало времени. Поэтому прошу тебя, прелесть моя и девочка моя, пожалуйста, возьми этот микрофон, поднеси его к своим драгоценным губкам и расскажи нашим прекрасным и душевным людям, что случилось с Ромой Ивановым. Все устали и хотят бай-бай. Кроме того, если ты будешь молчать и тянуть время, то у нас есть все шансы еще раз лицезреть, как граната разрывает человека на части. Ты, надеюсь, не забыла, что вокруг нас идет война! Эта говенная и позорная, великая и священная война!..