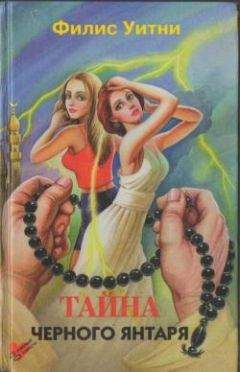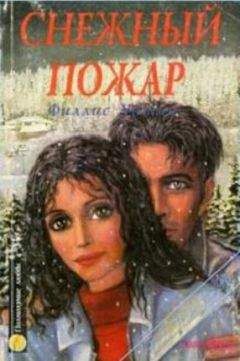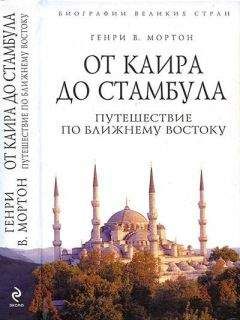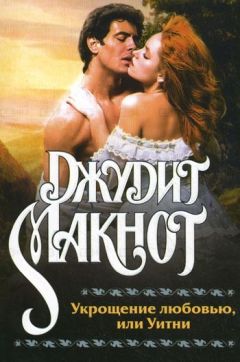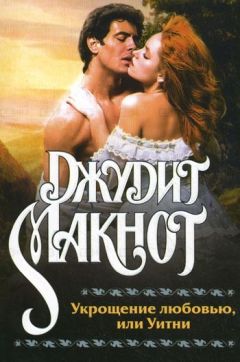После бегства Анабель у Трейси началась трудная жизнь. Их мать всегда всерьез винила свою младшую дочь в том, что Анабель пришлось покинуть дом. Тогда, в двенадцать лет, Трейси соглашалась с матерью и тоже винила себя, с головой окунаясь в это самобичевание. Повзрослев, она поняла, что оказалась всего лишь орудием в руках судьбы. Трейси теперь понимала, что не стоит всю жизнь стыдиться поступка, который вызвала детская ревность. Со временем Анабель все равно бы ушла из дома, при помощи Трейси или без нее. Анабель постоянно несла в себе некую загадку – она всегда бросалась навстречу бедам и несчастьям, когда окружающие ее люди не видели в этом никакой необходимости.
После ухода Анабель из дома Трейси обнаружила вокруг себя новые, и высокие, стены. За ней следили с явными подозрениями, словно постоянно ждали какого-нибудь непременного неверного или опрометчивого шага. В прошлом она всегда была честной во всех своих поступках и привыкла, что ей верят, а сейчас оказалась со всех сторон окружена недоверием и подозрительностью. И все потому, что Анабель ушла из дома. К ее любви к старшей сестре постоянно примешивалось раздражение. Сейчас Трейси понимала, что это было здоровое и полностью оправданное чувство самосохранения, но в двенадцать лет она еще не знала этого и сильно страдала из-за чувства вины. Даже сейчас оно нередко напоминало о себе из прошлого, мешая свободе ее теперешних мыслей и чувств.
В тот день в ресторане Трейси тоже пыталась взять вину на себя за то, что случилось и послужило причиной, из-за которой сестре пришлось уйти из дома. Но, как всегда, Анабель отказывалась ее слушать.
– Все равно рано или поздно это произошло бы, дорогая, – с необычной для Анабель откровенностью заявила она. – Ты не должна винить себя за мой уход из дома. Никогда.
Потом Анабель продолжила рассказ о человеке, за которого собиралась выйти замуж, знавшем о ней «почти все» и любившем ее такой, какой она была. Она отказалась выполнить просьбу Трейси и познакомить его с матерью…
– Я не хочу знакомить их, – решительно отрезала Анабель, не оставив места для споров и уговоров. Порой она тоже могла быть упрямой. Правда, это упрямство было мягким, каким-то ускользающим, немного эфемерным, и люди редко принимали его во внимание, даже когда Анабель брала над ними верх.
– Извини, дорогая Банни, – продолжала она, – но я никогда не хотела, чтобы он встретился с моей матерью и твоим отцом. Он думает, что я осталась совсем одна и у меня нет никого, к кому я могла бы обратиться… в общем-то, это правда. Мне кажется, в качестве несчастной сироты я буду нравиться ему больше, чем в качестве добропорядочной дочери и сестры. Поэтому я не смогла рассказать ему даже о тебе.
Эти слова обидели Трейси, но ей не оставалось ничего другого, как все же принять точку зрения сестры без возражений. Анабель нашла себе нового человека, который станет беспокоиться о ней, будет все время рядом и сумеет по-настоящему заботиться о ней. Что поделаешь… Эта мысль принесла юной Трейси большое облегчение и радость.
Они собирались навестить родственников Майлса в Англии, а медовый месяц проведут в Турции, сообщила Анабель. Стамбул всегда манил и очаровывал Майлса как художника, и ему хотелось попробовать свои силы в чем-нибудь другом, кроме портретов.
– Он такой… надежный и чудесный! – с радостным волнением рассказывала старшая сестра. – На него можно положиться. Он не позволит мне причинить самой себе боль. Впервые за всю свою дурацкую жизнь я собираюсь быть счастливой… и вести спокойную и безопасную жизнь. Из Турции я пришлю тебе что-нибудь, дорогая, чтобы ты знала, что у меня все в порядке. Что-нибудь такое, чтобы ты вспоминала обо мне всякий раз, когда наденешь эту вещь.
Анабель сдержала слово и прислала авиапочтой маленькую булавку в виде птичьего пера, которую с тех пор Трейси носила, не снимая. Подарок Анабель как бы говорил: «Это перо к твоей шляпке, дорогая Банни. Носи его и помни обо мне. Ты неплохо потрудилась над моим воспитанием!»
Трейси, поглядывая на булавку, думала, что теперь Анабель наконец-то будет счастлива, ей будет во всем везти. Но даже тогда она интуитивно ощущала, что с Анабель происходит что-то неладное, словно безупречную поверхность стекла нарушила крошечная трещинка. Этот изъян был хотя и едва заметен, но неисправим, от него нельзя было избавиться. Трейси решила, что просто не надо обращать на него внимания, и продолжала любить сестру.
Трейси привычным движением провела пальцами по булавке и посмотрела на сестру. Слезы ожгли ей ресницы. Оказалось, Анабель находилась вовсе не в безопасности, и к тому же была далеко не так счастлива, как надеялась. Если верить ее словам, Майлс оказался совсем не тем человеком, на которого можно положиться. На портрете зеленоватые глаза Анабель едва виднелись из-под ресниц, и нельзя было хотя бы попытаться угадать, что они видели или о чем она думала.
Неожиданно за спиной у Трейси Хаббард раздалось:
– Могу я поинтересоваться, что вы делаете в этой комнате? – сказано это было ледяным тоном.
Трейси резко обернулась и, к своему ужасу, увидела в дверях Майлса Рэдберна. Его лицо было холоднее зимней стужи, но под коркой льда пылал гнев. Трейси испугалась. Ах, ведь Анабель предупреждала ее об опасности, и, хотя Трейси тогда решила не обращать внимания на истерику сестры, теперь она отчетливо вспомнила каждое ее слово и ухватилась за первую попавшуюся соломинку.
– Я… извините. Я понимаю, что не должна была входить сюда, но миссис Эрим сегодня утром показала мне эту картину, и я… не смогла побороть своего желания прийти сюда и еще раз взглянуть на нее. Это должно быть… я хочу сказать, я видела раньше некоторые из ваших портретов… и этот наверняка один из самых лучших.
– Эта картина написана не для посторонних людей, мисс Хаббард, – отчеканил Майлс Рэдберн. – Если вы намерены остаться здесь на неделю, как мы договорились, вам придется подавлять такие необдуманные импульсы. Насколько мне помнится, я просил вас сегодня после обеда не входить в мой кабинет.
Трейси молча кивнула, не в силах вымолвить ни слова. В горле у нее застрял ком страха, глаза затуманили слезы. Рэдберн освободил дверь, чтобы она могла вернуться в кабинет, потом подошел к чертежной доске и уселся на высокий стул, стоящий перед ней. Трейси была, кажется, наконец прощена.
У двери в салон Трейси остановилась и положила руку на медную ручку. Он должен кое-что узнать, она не могла промолчать о том, что увидела в кабинете несколько минут назад.
– Когда… когда я несколько минут назад вошла сюда, – промямлила девушка, – Ахмет стоял у доски и изучал рисунок, над которым вы работаете. На мой вопрос, что он здесь делает, он буркнул, что это слова Аллаха, и ушел.