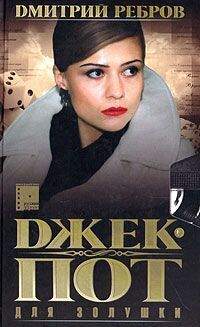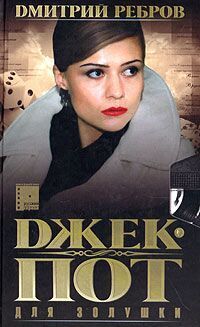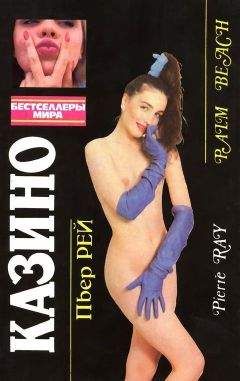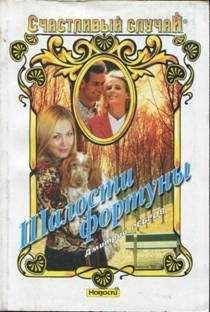Минут через пять Федор Васильевич подошел к ней и сказал:
– Вот что, Наталья, сколько мы здесь провозимся – неизвестно. Шла бы ты ко мне в избушку, чего зря мерзнуть-то?…
– А вы сможете ее починить?
– Сможем, сможем, не бойся… Ступай!
Наташа вернулась в теплую каморку сторожа, подбросила в печку пару поленьев и, взяв томик Бунина, присела на старенький диванчик. Чтобы скоротать ожидание, Наташа решила занять себя чтением. Книжка открылась на «Господине из Сан-Франциско», читанном давным-давно, еще в школе, а потому основательно забытом.
Через четверть часа она решила устроиться поудобнее и прилегла. А еще через полчаса Наташа незаметно и тихо заснула.
…Ей снился зимний лес и серая белка на снегу. Она сидела неподвижно, нисколько не пугаясь Наташи, и спокойно смотрела на нее черными бусинками глаз. Наташа медленно приближалась к ней, ей хотелось взять пушистого зверька на руки, погладить, приласкать… Вот она уже совсем рядом, наклонилась, протянула руки… И вдруг увидела, что у нее в руках оказалась не белка, а жирный пучеглазый оранжевый карась – та самая золотая рыбка, из компьютера! Он таращил на Наташу свои круглые, совершенно бессмысленные глазищи и беззвучно открывал рот, словно пытаясь что-то сказать. Наташе было неприятно держать его – холодного и скользкого, но и бросить карася она не могла. То ли ей нужно было что-то сказать ему, то ли наоборот – что-то от него узнать. Она растерялась, и тут у рыбки прорезался звук. Каким-то скрипучим, механическим голосом она абсолютно без интонаций раз за разом, как испорченная пластинка, принялась повторять: «Чего тебе надобно… Чего тебе надобно… Чего тебе надобно…».
Наташа проснулась оттого, что кто-то тряс ее за плечо. Она открыла глаза – перед ней стоял насмерть продрогший Федор Васильевич.
– Наталья, собирайся скорей, машина ждет.
– Что? – не поняла спросонья Наташа.
– Машина, говорю, ждет. Домой-то поедешь или нет?
– Да-да, конечно! – Наташа вскочила и стала одеваться. – Починили все-таки? А сколько время?
– Полчетвертого.
– Сколько?! – ужаснулась она.
– Полчетвертого. Пришлось повозиться…Давай скорее, Наталья, Константиныч торопится.
Через минуту Наташа была готова. Она порывисто обняла старика-сторожа и поцеловала его в колючую щеку.
– Спасибо вам, Федор Васильевич!
– Да ладно, чего там… На-ка вот, возьми, – он протянул ей поллитровую банку с чем-то темным.
– Что это?
– Варенье. Тебе ж понравилось… Все, беги! Она выскочила на улицу – «Москвич», рыча мотором, стоял у калитки. Едва Наташа села в машину, они тронулись.
Ехали они долго, куда как дольше, чем на джипе Левчика. «Москвич» всю дорогу лихорадило – периодически он начинал дергаться, как паралитик, и тогда Наташа замирала от волнения – а вдруг он сломается окончательно? Но все кончилось благополучно, водитель довез Наташу до ближайшего метро, извинившись, что не может доставить ее до дома. Он торопился, нервничал, да и машина могла отказать в любой момент.
Метро только открылось, и Наташа отправилась домой на самом первом, почти пустом, поезде…
Она осторожно открыла дверь – было еще очень рано, бабушка наверняка спала. Тихонечко разделась и на цыпочках вошла в комнату.
Постель была не разобрана, бабушка с телефоном на коленях сидела в кресле, свесив голову на грудь. Наташа решила, что она спит, и хотела было пройти на кухню.
Вдруг ее взгляд зацепился за телефонный аппарат, она заметила, что на нем нет трубки. Сразу тревожно заныло в груди, Наташа подошла к креслу и, присев на корточки, заглянула бабушке в лицо.
Она была мертва. Наташа поняла это сразу, едва увидела неживой, тусклый блеск ее полузакрытых глаз. Ноги под ней подкосились, и она тяжело осела на пол.
Отчаянье и страх ледяной волной замутили разум. Все вокруг словно перестало существовать, одна сплошная гулкая пустота, а в ней – только отчаянье и страх.
Сколько времени провела Наташа, сидя на полу около мертвой бабушки, она не знала. Но постепенно способность думать вернулась, а с нею возникли и рваные, растерянные мысли о необходимости что-то предпринять. Надо было что-то делать, но что именно – Наташа не знала.
Она тяжело поднялась и отправилась к соседям на четвертый этаж. Там жила Клавдия Михайловна, почти что ровесница и единственная подруга бабушки. Уж она-то должна была знать, что теперь должна делать Наташа.
Дверь ей открыл внук Клавдии Михайловны – шебутной десятилетний Дениска.
– Денис, а бабушка дома? – спросила Наташа.
Мальчик кивнул и крикнул вглубь квартиры:
– Ба! К тебе!
Послышались шаркающие шаги, и в прихожую вышла Клавдия Михайловна. Едва взглянув на потерянную Наташу, она испуганно округлила глаза и прижала руки к груди.
– Что – Катерина?…
Наташа не смогла ей ответить, только кивнула.
– Гос-по-ди… – выдохнула соседка.
Она шагнула к Наташе, обняла ее и тихо, по-старушечьи, заплакала. И эти слезы полузнакомого человека вдруг разом донесли до нее всю безысходность и невосполнимость ее потери. К горлу подкатил горький, обжигающе горячий ком, и Наташа глухо, отрывисто зарыдала…
Потом они спустились к Наташе. Она уже не плакала, а находилась в каком-то тяжелом горестном ступоре. Клавдия Михайловна сидела с ней на кухне, а ее сноха Люба действовала: позвонила куда следовало, отыскала одежду, давно приготовленную бабушкой для этого дня. Там же, среди белья, она обнаружила запечатанный конверт, на котором рукой Екатерины Даниловны было написано только одно слово – «Натусе». Люба протянула конверт Наташе, но Клавдия Михайловна перехватила его и положила на подоконник.
– Не надо сейчас, – мягко сказала она Наташе. – Потом прочитаешь…
Приехали врачи, заполнили какие-то бумаги, и санитары унесли Екатерину Даниловну, унесли навсегда из этого дома. За ними ушла Люба, а еще немного погодя – и Клавдия Михайловна. Она обещала еще зайти сегодня и просила, если что – обращаться к ним без стеснения.
Оставшись одна, Наташа вскрыла конверт. В нем лежали три стодолларовые купюры и сложенный вдвое тетрадный листок в клеточку.
«Наташенька, девочка моя! Не надо плакать, ведь случилось то, что должно было случиться. Смерть – это всего лишь часть жизни, ее неизбежный и справедливый конец. Страшно, когда он наступает слишком рано, но я-то, слава Богу, пожила достаточно. Поверь, я даже рада, что наконец-то освободила тебя от себя. Уже давно я перестала быть тебе поддержкой и опорой – тому виною старость. Я превратилась в обузу, и что бы ты ни говорила, это так. Тебе давно пора иметь свою семью, своих детей, а вместо этого ты нянчишься со мною.