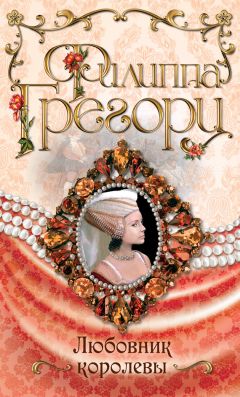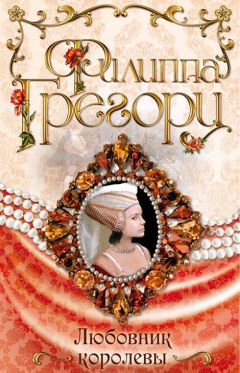— Я рож не корчу! — возразил Бориска.
Федька хотела ответить язвительно: ну так ты и турдефорсов не проделываешь. Но пожалела приятеля. Да и какие турдефорсы у береговой стражи? Ей блистать не приходится — это первый дансер должен проделать пируэт в семь оборотов или двойной кабриоль, да чтобы ноги после каждого удара икрой об икру раскрывались четко, внятно, а береговая стража, коли сделает разом и в лад антраша-катр, то и отлично.
— Это аргумент, — согласился Шапошников. — Возражать не смею. Но я заметил любопытную вещь — при турдефорсах корчат рожи мужчины, женщины же умудряются удерживать на устах улыбку. Выходит, сие возможно, и рожи — всего лишь от неумения и распущенности.
— Женские проще и легче мужских, сударь, — возразила Федька. — На сцене женщины делают антраша с четырьмя заносками (она показала руками, как обычно показывают танцмейстеры, скрещение в воздухе натянутых стоп), а у мужчин — шесть, у виртуозов — восемь. Женщины лишь недавно стали делать пируэты, у нас в труппе двойной делают только госпожи Казасси и Бонафини, но не очень хорошо. И еще я, недавно выучилась. А у мужчин — пируэт в шесть и в семь оборотов, того гляди, за кулисы улетишь или в декорацию уткнешься.
— А еще? — господин Шапошников, видимо, забавлялся Федькиным азартом.
— Еще кабриоль. Сделать простой кабриоль вперед нетрудно, это и вы, сударь, сможете. Главное — после удара четко раскрыть ноги. Кабриоль у нас все девицы делают, и вперед, и назад. А двойной — только мужчины, и не все.
Тут же память представила Саньку, который учился делать двойной кабриоль, но получалась какая-то мазня.
— Да что ты, сударыня, про такие скучные предметы заговорила! — не выдержал Бориска.
— Вы любите танцевать? — спросил Федьку господин Шапошников.
— Это мое ремесло.
— Ремеслом и из-под палки занимаются. Танцевать вы любите, сударыня?
— Да, — подумав, ответила Федька. В конце концов, что у нее в жизни было?
Стоило выходить на сцену хотя бы ради того, чтобы перед тобой там преклоняли колено, почтительно брали за руку, заглядывали в лицо умильно или страстно. Только на сцене Федька и ощущала себя женщиной…
— Но вы ведь в береговой страже состоите?
— У меня нет покровителя.
— Это плохо?
Федька вспомнила толстого откупщика, которого подцепила Анюта Платова.
— Нет, это не плохо, — ответила она строптиво. — Я на хорошем счету, а что будет дальше — ну… как Бог даст…
— Вы избрали своим покровителем Бога?
— Ну… Да.
На самом деле Федька не была великой молитвенницей — да и театр располагает не столько к истовой вере, сколько к тысяче суеверий. За попытку насвистеть танцевальный мотив могли и прибить — свист к большой беде, к провалу премьеры, к плохим сборам. Все крестились перед выходом на сцену — и почти все заводили интриги, мало беспокоясь о венчании.
— Это хорошо, — сказал господин Шапошников. — Этот не подведет.
Молодая женщина, сидя у туалетного столика, готовилась отойти ко сну. На ней поверх вышитой ночной сорочки был алый бархатный шлафрок, и она смотрела в зеркало — наблюдала, как горничная девка надевает ей пышный, отделанный дорогим кружевом, батистовый чепчик, и улаживает под него густые русые волосы, накрученные на папильотки.
— Не так, назад сдвинь, — приказала она. — Вот дура… еще… Ну что за дура. Пошла вон. Ты, мамзель, бери книжку, читай. Так, глядишь, продержимся, пока мой не приедет.
В зеркале отражалось правильное лицо, почти идеальное — но идеал был рукотворным. Чуть-чуть румян в нужных местах, чуть-чуть сурьмы, а главное — мраморная неподвижность. Лицу не позволялись даже улыбки — а не то что гримасы. Оно было вышколенным, это удлиненное лицо, и женщина привыкла сдерживать те чувства, что чреваты морщинами.
Поэтому кавалеры, глядя на ее красоту, дали бы ей от силы двадцать пять, а дамы не пожалели и тридцати, даже тридцати двух.
Часы в гостиной пробили полночь.
Чтица, несмотря на поздний час, одетая, как для визитов, и зашнурованная, взяла две книжки — на выбор.
— Изволите русскую или французскую? — спросила она.
— Какая у нас русская?
— «Душеньку» в прошлый раз приказывали читать, сочинение Богдановича.
— Нет, сон нагонит. Нет ли чего новенького? Сказывали, ты днем сидела, в тетрадку что-то списывала.
— Новую стихотворную сказку господина Княжнина, сударыня, про попугая. Принесли на два часа.
— И что, долгая?
— Долгая, сударыня, и пресмешная. Войдет в большую моду.
— Неси тетрадку. Хоть повеселиться…
Девка, которая еще не убралась, помогла хозяйке лечь, подмостила ей под локоток и под шейку подушки, укрыла одеялом, и тогда только, поклонившись в пояс, ушла.
Чтица села на стул у постели и поднесла тетрадь близко к лицу.
— Не дура ль ты, мамзель? Ведь ослепнешь когда-нибудь. Возьми другую свечку.
Сказка была не совсем для дамского чтения — о том, как попугай, воспитанный богомольной старушкой, нахватался неудобь сказуемых словечек, и что из этого получилось. Но дама, лежавшая в постели, одобрительно кивала. Смеяться она не желала, а чтица уж привыкла к такой причуде.
Читала она внятно, выразительно, меняя голос всякий раз, когда говорила за старушку, ее дочку, ее сынка-повесу и самого главного героя — речистого Жако. Тут в дверь спальни поскреблись, и девка в щелку доложила, что прибыл барин.
— Ступай, мамзель, пройди через гардеробную, — приказала дама. — Завтра поедешь со мной по лавкам.
Это была награда — закупая себе лент, кружев, пряжек, пуговиц и чулок, дама обычно делала подарки той, которая была звана с собой. А прислуга в доме жила достойная: кроме чтицы учительница музыки и пения, француженка-куаферша, компаньонка Марья Дормидонтовна, знавшая чуть не сотню пасьянсов, компаньонка фрау Киссель, умевшая раскладывать карты на все случаи жизни, от пропажи до бракосочетаний. И все эти женщины имели горничных — хотя бы одну на двоих, и все должны были одеваться по моде, чтобы не позорить хозяйку. Что касается фрау Киссель, то от нее особого блеска не требовалось — фрау под шестьдесят, но чтице приходилось модничать не на шутку, а она была пухленькая и всякий раз, утягиваясь, маялась.
Сделав глубокий реверанс, чтица ушла, а ее хозяйка легла пособлазнительнее — выложила на подушку большую полуобнаженную грудь. Она прислушивалась, услышала шаги, немного подалась вперед — как если бы проснулась и затеяла вставать.
Дверь отворилась, вошел мужчина, стягивая на ходу фрак.
— Ну, наконец-то, душа моя, — сказала она. — Я заждалась, еще немного — и уснула бы. Ступай сюда…