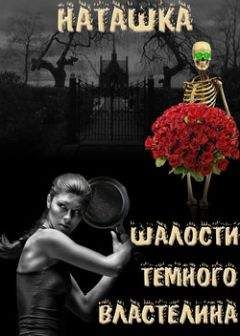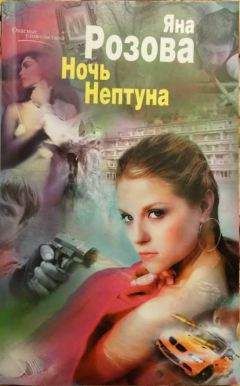— Ну, понимаешь, — завел папа в ответ на мои возмущенные вопли, — он прожил такую жизнь, в таких структурах служил… Их специально тренировали отказываться от родных на случай провала.
— Но он в КГБ служил, а не в контрразведке!
— А это одно и то же. Двадцать лет дед служил именно в разведке! Он такое знал про нас и про них! Если бы его поймали в те времена враги, ему бы живому не выбраться, а семью его расстреляли бы здесь свои. Это как пить дать!
— Ой, бредни все это! — Я была человеком нового времени. — Ну в войну, может быть, но так то при Сталине! Сухарь он, дед этот! Дочь умерла, а он ни слезинки не пролил. И нечего мне лапшу про всякие там тренировки вешать! А когда мы с мамой почти голодали! Где он был?
На этом месте мне пришлось прерваться, потому что папа заплакал сам. Я посмотрела на него пару секунд и тоже зарыдала. А потом мы обнялись и подружились. Папа сказал мне в завершение разговора:
— Все-таки, Варенька, на Зиновия Ивановича не обижайся. Он просто не умеет выражать свои чувства. И для тебя он кое-что все же сделал. Даже я удивился. Когда-нибудь расскажу!
И вот теперь дедушка Зина заболел. С ним случилось два инфаркта подряд, и дела обстояли крайне плачевно. Дед держался мужественно, как и положено разведчику. Он только попросил бывшего зятя привезти к нему внучку, попрощаться.
Если честно, то мне сейчас было не до старого зануды, о котором я не имела никаких нормальных семейных воспоминаний. Отрываться от своей спокойной и веселой жизни, ехать куда-то, терять время! А скоро состоится судебный процесс по делу профессора Кострова. До этого Седов просил не уезжать никуда, и я пообещала. Не люблю выглядеть врушкой, даже если и не солгала в полном смысле этого слова.
Еще одна заноза была в моем сердце — Тимур! Смутно, очень смутно я улавливала вокруг него черную тучу, готовую пролиться неприятностями. Не знаю, что может случиться, не знаю, откуда ждать беды, но жду все время, хоть и не разумом, а вот этой занозой в сердце. Надо бы перед отъездом еще поговорить с ним откровенно, как раньше. Ничего не сглаживать, может, поругаться, может, узнать что-то страшное. Лишь бы без этой неизвестности!
Несмотря на все эти соображения, я согласилась ехать в Питер.
А на следующий день ко мне пришел гость. Тамила уехала по каким-то делам, я отлеживалась в ванне, когда раздался звонок в дверь. Вылезать не хотелось, и я решила не открывать. Ну кто такой важный может прийти? Однако в дверь продолжали настырно звонить. Разозлившись, я вылезла, обернулась полотенцем и, нашлепав воды по всей прихожей, открыла дверь.
На пороге стоял невысокий человек средней комплекции. Будь он чуть выше и похудее, я бы решила, что пожаловал сам Дон Кихот Ламанческий. Негустые волосы его давно отхлынули со лба на затылок, но то, что росло там — росло вольготно, не зная ножниц: жиденькие пряди спускались до плеч. Удлиненное лицо с благородным, чуть заостренным кончиком носа и миндалевидными глазами под изогнутыми крутой дугой бровями украшала эспаньолка. Я бы сказала: чуть побитая молью, если бы моль имела привычку обгладывать живых людей.
— Добрый день, — размеренно произнес он хорошо поставленным голосом. — Извините, что прерываю ваши водные процедуры. К сожалению, меня привели в ваш дом отнюдь не праздные дела!
— Добрый день, — ответствовала я, завороженно глядя на гостя. — Проходите…
— Я, — представился тот, воспользовавшись предложением и продвигаясь вслед за мной в гостиную, — адвокат профессора Кострова.
— Ага! — сказала я, стряхивая очарование. — Так бы сразу и сказали! Я переоденусь!
Усадив гостя на белый диван, я ушла в гардеробную. Выйдя уже в полотняных брюках и блузке, уселась напротив него и сделала вопросительное лицо.
— Позвольте начать? — уточнил Дон Кихот. И тут я поняла — адвокат внешним видом и манерами подражал своим знаменитым дореволюционным коллегам. — Меня зовут Новохатский Владимир Геннадьевич. И я пришел к вам с миром, Варвара Игоревна.
— Я этому рада, но надеюсь, вы понимаете, что являетесь защитником убийцы моей матери?
— Прошу вас! До решения суда мы не имеем права назвать человека убийцей.
— Что-то ваш подзащитный разрешал себе убивать людей без всякого суда… — Я сообразила, что чем быстрее он изложит цель своего визита, тем скорее уйдет. — Ладно, валяйте, что у вас там!
— Евгений Семенович, — не стал ломаться стряпчий, — поручил мне предложить вам заключить некую сделку. Понятно, он надеется только на вашу доброту, на мягкость женского сердца! Костров — большой человек, известный ученый, его репутация безупречна.
— Да уж, сел в дерьмо ваш большой безупречный ученый, — зло прокомментировала я.
Владимир Геннадьевич поднял еще выше коромысла своих бровей, демонстрируя несогласие с употребленными мною терминами, и продолжил:
— Я перечислил заслуги моего подзащитного только для того, чтобы подчеркнуть размер несчастья для него, в случае если всплывет некоторая информация о его методе. Конечно, жуткий случай с харакири и пятном на картине будет разбираться на суде. Тут ничего не сделаешь. Труп обнаружен, группа крови совпадает. Но кое-что сделать можно! Остальные случаи трудно приписать к делу профессора. Нет ни свидетелей, кроме одной алкоголички, ни улик. Вы понимаете?
— А как же! Укокошил несколько бедных психов, так что, судить его за это, что ли?
— Не совсем так. Несчастные погибли из-за некоторого несовершенства методики, а вовсе не из-за ошибочности всего метода! Так вот, продолжу. Случай с вашей покойной мамой — совсем иное дело. Это личная история, не имеющая отношения к научной деятельности Евгения Семеновича.
— Грубо говоря, — возразила я, — хреноту несете, дядя. Ваш милый Евгений Семенович довел мою маму до страшного — до самоубийства, используя свою глубоко научную теорию катарсиса. Пусть это случилось не в рамках апробации его учения, но пользовался он своим обычным инструментом: накачивал жертву специальными препаратами, вызывающими у больного депрессию или истерическое состояние, и унижал его, издевался над ним, подводя к петле или ножу.
— Тем не менее мне удастся представить это дело в ином свете. А вас профессор попросил бы дать на суде показания, отличные от тех, что имеются у следователя. Вы должны сказать, что Костров сам пригласил вас в свой кабинет и сделал чистосердечное признание, раскаялся перед вами, так сказать. И он сам позвонил в милицию, движимый, единственно, идеей искупления своего греха. Это будет выглядеть трагично и благородно. А вы, в свою очередь, получите в полное свое распоряжение все картины кисти Маргариты Садковой, имеющиеся в коллекции Кострова.