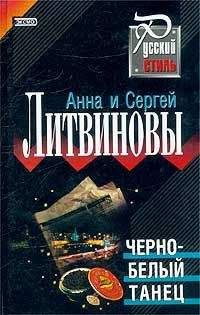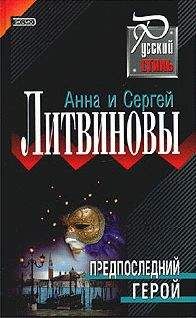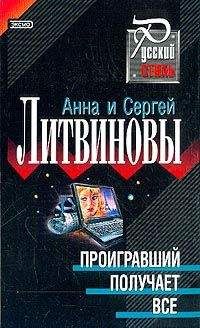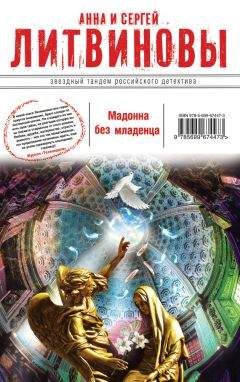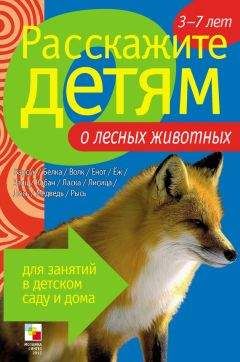Седой «Илюха» (постарше Капитонова будет!) бодрячком выпрыгнул из квартиры.
С Сеней он даже не попрощался.
– Ну, показывай, как вы здесь устроились, – снисходительно проговорил, проходя внутрь квартиры Егор Ильич.
Зашел на кухню, цепко осмотрел десятиметровый жалкий уют. Кивнул на два холодильника, два кухонных стола, два чайника на плите:
– Коммуналка?
– Коммуналка, – кивнул Арсений. – Но соседка с матерью живет. Сюда редко наезжает.
– Я вам тут кое-каких харчишек подвез, – старик небрежно кивнул на огромную картонную коробку. Шофер не ошибся, поставил ее именно на их, а не на соседкин стол. Впрочем, мудрено не ошибиться: на столе пишмашинка, пепельница с окурком… Из коробки вызывающе, развратно выглядывал когтисто-зеленый хвост ананаса.
– Пускай Анастасия, как придет, в холодильник продукты уберет. Плохо, что холодильник у вас не в комнате. Искушать будет провизия посторонний глаз… Ну, давай, Арсений, чай ставь. Похлебаем, пока Анастасии нет. Чай я тоже принес. Индийский, со слоном.
Мощной магии – магии самоуверенности – которой обладал старик, невозможно было противиться. Сеня и не противился. Научился за время проживания в семье Капитоновых. Подчиняться этой магии владычества можно – но по мелочам. Главное, чтобы чужая самоуверенность внутрь тебя не проникала, ничего там не задевала и не разрушала.
– В комнату пошли, – коротко приказал Егор Ильич, когда Арсений поставил на конфорку чайник.
В комнате старик с порога мгновенно разглядел всю их жалкую обстановку. Разглядел и оценил: старый разобранный, разболтанный диван, старинный стол с зеленым сукном, зеленая лампа времен совнархозов, книжный шкаф. Дешевый коммунальный уют. Чужеродно выглядела здесь Настина косметика на тумбочке, духи в иностранных пузырьках. И пара книг, слепых переплетенных ксероксов, брошенных на диване. Без спроса старик, с запрограммированной брезгливостью, прочел названия ксероксных книг. («Слава богу, всего-то полная „посевовская“ версия „Мастера и Маргариты“ да „Один день Ивана Денисовича“, ксерокс с „Роман-газеты“. За это не сажают».) Старик гадливо отбросил произведения антисоветчиков.
И тут в дверь раздался мягкий стук. Колотили плечом – юным, девичьим.
– Кто?! – радостно прокричал Арсений, уже предчувствуя. Уже зная, кто пришел.
– Открывай, подлый трус!… – раздался из-за двери веселый Настин голос.
Сеня бросился к двери, теряя тапки.
Ввалилась Настя – холодная, румяная, присыпанная снежком. В обеих руках по сумке, да еще авоська с мандаринами, яблоками, хурмой.
– Держи давай, писатель, я все руки себе оттянула! – всучила ему сумки. – Да сапоги мне сымай! – и тут увидела показавшегося на пороге комнаты деда. Радостно выдохнула: – Дедка! – Бросилась к нему в объятия.
И старик не сумел удержать на лице вечное свое скалоподобное, хмурое выражение. Лицо его озарилось нежностью. Он осторожно принял в свои объятия внучку – а та цепко схватила его за плечи, прижалась на минуту к груди. А потом оторвалась и принялась целовать его в щеки, потом пегие волосы ему ерошить… Старик стоял с глуповатым видом: вечная его броня – закаленная, коммунистическая – от прикосновений внучки давала трещину.
Совсем лишним почувствовал себя Арсений. Его даже ревность слегка уколола. Он потащился, неприкаянный, с Настениными покупками на кухню.
А тут и чайник закипел, зашипел, заплевался.
Настена усадила деда на табуретку, и принялась летать по кухне, сооружая чаепитие.
А потом они втроем запировали горой. Коньячок армянский, чай индийский со слоном, бутерброды с черной икрой, да с настоящей сырокопченой колбасой, да со швейцарским сыром… Дед слегка размяк – никогда раньше Арсений его таким не видел. «Свиданию с внучкой так радуется? А, может, стареет?»
Сам Сеня тоже поплыл от номенклатурного коньячка.
– Как там Устиныч? – осмелев, спросил он у старика, ткнув указательным пальцем в потолок.
Дед сразу понял, что имеет в виду Арсений: состояние здоровья генсека. Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко, седой астматик, уже почти месяц не показывался на публике.
– Совсем плох, – одними губами произнес Егор Ильич.
– Во дела! – усмехнулась Настя. – Вся страна живет в напряженном ожидании кончины своего руководителя.
– Молчи, девка! – прикрикнул на нее дед. – Язык твой – враг твой.
– А кто вместо него будет-то? – спросил Арсений.
– Ох, не знаю, – вздохнул-прошелестел старик. – Боюсь, что Горбачев.
– Чего ж тут бояться? – воскликнул Сеня. – Горбачев – человек молодой. Здоровый, активный!… Может, при нем хоть что-то в стране изменится…
– Вот этого я и боюсь, – скорбно вздохнул дед, и больше к разговорам о политике не возвращался.
О жизни на Бронной Егор Ильич тоже рассказывал неохотно. Из него чуть ни клещами тянули. Кое-что все же вызнали. Бабушка, кажется, с уходом Насти почти смирилась. По крайней мере, Егор Ильич сказал:
– Привет тебе передавала. И просила узнать, как вы тут питаетесь.
А вот мама, по скупым словам деда, по-прежнему непреклонна.
Но, сказал Егор Ильич, «она свою точку зрения переменит. Это я вам гарантирую».
Впрочем, в детали вдаваться не стал. Перевел разговор в безопасную плоскость. И даже улыбнулся свежему анекдоту про престарелого генсека (его осмелилась рассказать Настя).
Когда дед ушел, Сеня сказал:
– Может ведь быть нормальным! Если захочет!
– Да он вообще классный! – горячо проговорила Настя.
Она не скрывала своей радости из-за дедова визита.
…Настя не подозревала, что в тот день видит его – деда, старика, Егора Ильича Капитонова, – последний раз в жизни.
11 марта 1985 года
В тот день Арсений впервые в своей жизни ощутил: История на его глазах творится. Великие события происходит рядом, чуть не задевая его своим крылом.
Вряд ли многие его современники разделяли тогда, одиннадцатого марта тысяча девятьсот восемьдесят пятого года, это чувство. Но оно пришло к ним потом, позже. К каждому в разное время, но явилось оно в конце концов даже к самому нечувствительному: или в восемьдесят седьмом году, или девяносто первом, или девяносто третьем… Вскоре после того марта восемьдесят пятого большие перемены в России стали обыденными, словно смена времен года. Как листопад или слякоть за окнами. Все россияне, всё время стали ощущать: одновременно и параллельно с их жизнью, где-то неподалеку от них, – делается История.
Делается – но без них. Без большинства из них…
Время ломается – и меняет свой ход. А самое правильное, что обычные люди могут сделать в эпоху перемен, это спрятаться от них. Или не замечать их. Или, в крайнем случае, – приспособиться к ним. А можно, как это сделали немногие, но самые сильные или самые подлые – использовать перемены для того, чтобы возвыситься…