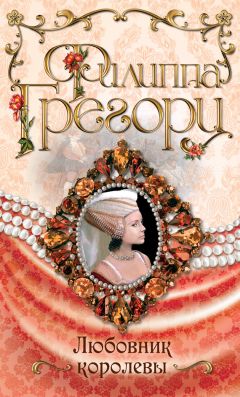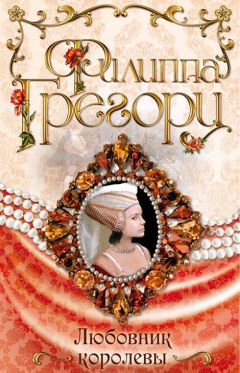Решив, что ночью непременно выберется из флигеля и навестит Федьку, Санька немного успокоился. Совесть притихла — он сделает то, что в его силах, а Бог даст возможность — сделает и более. Никитин меж тем по-французски торговался из-за тросточки — слыханное ли дело, чтобы бесполезная палка стоила двадцать рублей?
— А вон за углом русская лавка, сударь, там трости по три рубля, — отрубила хозяйка. — Туда ступайте. Коли охота в свете осрамиться.
— Точно такие же! — не унимался Никитин.
— Да все будут знать, что вы в русской лавке купили.
Это был весомый аргумент.
— Теперь мы заложили основы твоей репутации, сударь, — сказал Никитин, когда вышли с тросточкой из лавки. — Все будут знать, что ты ездишь разоряться во французские лавки. Погоди, ты еще первым вертопрахом в столице станешь.
Потом поехали к портному, потом — домой, собираться. Саньку, невзирая на его похоронное настроение, собирались везти в гости — в некое благородное семейство.
— Так твой благодетель велел, — строго сказал Келлер и поморщился — он проработал целый день, писал, читал гранки, возил их в типографию, и все это в похмельном состоянии.
— Меня управа благочиния ищет…
— Гостиная госпожи Фетисовой — последнее место, где тебя станут искать.
— Предпоследнее — последним был бы Зимний дворец, — вставил неугомонный Никитин. — Ну, куда волосочес запропал? Убью подлеца! Я, Румянцев, в гневе страшен, у меня натура страстная!
— То-то кухарка Секлетея у нас месяца не продержалась, — напомнил Келлер. — От твоих страстей, сказывала, хоть в погребе запирайся, хоть на чердак лезь, а она женщина замужняя, да и в годах уже.
— Но отчего?! — внезапно впав в отчаяние, вовсе не комическое, воскликнул Никитин. — Отчего, я тебя спрашиваю?! Я дурак? Нет! Я лицом страшнее черта? Нет! Я скуп, зол, ругатель? Нет же! Выходит, для них телосложение всего важнее?! А почем ей знать — каковы мои скрытые достоинства?!
— Кстати о достоинствах — Туманский твой последний опус изругал и велел заново переписать. Приедешь — сядешь в столовой и будешь трудиться, чтоб к утру сдать.
— Кой черт связался я с этим журналом! Переводил бы трактаты!.. — Никитин хотел еще что-то выкрикнуть, но замер с открытым ртом, услышав стук дверей и скрип половиц. — Волосочес притащился! Где пудромантели?!
Началась такая суета, как бывает обыкновенно перед премьерой — когда выясняется, что все перепутали, главный дансер повредил ногу, главная дансерка в обмороке из-за внезапно объявившейся беременности, декорации и вся мебель на сцене выкрашены лишь вчера и пачкаются, оркестру не сообщили, что музыкальные арии переставлены местами, а первая скрипка с утра отчего-то ушла в запой.
Наконец Санька воздвигся посреди комнаты — в новехоньком голубом узорчатом фраке на французский лад, облегающем его стройный стан, как перчатка, в прекрасно скроенных штанах и в дивных шелковых чулках на изумительных ногах, отлично причесанный и до такой степени очаровательный, что Келлер, не склонный к сантиментам, произнес:
— Ну ни черта себе!
— Я рядом с ним, поди, как мартышка, — заметил Никитин, тоже прекрасно одетый, но не достающий Саньке и до плеча. Он уже держал под мышкой стопочку книг и журналов.
— Ну-ка, поворотись, — велел Келлер. — Изрядно. То, что требовалось. Сильф!
Санька исправно поворачивался и оказался лицом к окну. Темное стекло было как зеркало — и он увидел у себя за спиной стоявшего в дверях кавалера, как будто незнакомого. Кавалер не примерещился — видно было также, что Никитин указал на Саньку рукой, а кавалер покивал, словно бы одобрил, и отступил в темный коридор.
— Едем, едем! — закричал Никитин. — Сударь, тебя ждут великие победы!
К крыльцу подали экипаж — тот, в котором ездили к покровителю. Санька с Никитиным выбежали на крыльцо — и попали в метель. Эта петербуржская зима была удачной — снежной и ветреной, но не гнилой, как обычно, не сырой и слякотной. Служитель Трифон распахнул дверцу экипажа, нарядные кавалеры впорхнули в него воистину как сильфы, кучер хлестнул коней, полет к победам, неведомо зачем нужным, начался.
— Ты, сударь, главное — ничего не бойся, — поучал Никитин. — Я все возьму на себя, ты только знай говори комплименты. Глядишь, кому и понравишься. Ты же знаешь — в наше время мужские стати и молодость в большой чести и великие чудеса творят.
Это был намек на государыню, которая после смерти воистину сердечного друга Ланского приблизила к себе молодых гвардейцев — сперва Ермолова, затем Дмитриева-Мамонова. Санька промолчал — сказалась театральная выучка. Говорить о таких вещах в театре опасались — всегда найдется добрая душа и донесет начальству. А ему только дай повод…
— Чуть не забыл! Тебе нужно иное прозвание. Как девичья фамилия матушки твоей? — вдруг спросил Никитин.
— Морозова.
— Ну вот, будешь Александр Морозов. Сам понимаешь, этак оно лучше…
Дом госпожи Фетисовой, куда привезли Саньку, был невелик, но отменно убран, уже в сенях встречало тепло и аромат курильниц, лакеи — одеты и причесаны прекрасно, на свечах не экономили. Никитин провел подопечного в гостиную, где собралось пестрое общество — от почтенных старцев, служивших, поди, еще при государыне Анне, до подростков лет четырнадцати-пятнадцати, образовавших в уголке свою компанию.
Санька впервые очутился в жилище, где всякая вещица была дорогой, красивой и словно бы вслух заявляла о себе: вы, господа гости, еще только приглядываетесь к новинкам в лавках, ждете, не подешевеет ли, а я — уже тут, вам на зависть, и за меня деньги плачены с легкостью и радостью!
Все в парадных комнатах было на модный лад, и даже паркет там недавно поменяли — вдоль стен пустили греческий узор-бегунок «меандр», выложили акантовые листы и пальметты. Вот только перламутровых инкрустаций мастер себе не позволил — в доме, где вовсю топят зимой печки, а к утру комнаты выстывают, перламутровые пластинки, чего доброго, будут выскакивать со своих мест.
Мебель также была на зависть всем модникам — на нее пошло искусно прокрашенное дерево, так что кресла, стулья с овальными спинками и угловые шкафчики в одной гостиной были блекло-лиловыми, в другой — зелеными, резные консоли же — голубоватыми. У стен стояли высокие позолоченные торшеры на дюжину свеч каждый, также украшенные акантовыми листьями. Но позолота была не пошлой, не кричащей — умные мастера добавили в состав серебро и получили изысканный зеленоватый оттенок.
Были тут и забавные банкетки — «помпейские», сделанные по французским рисункам, на ножках в виде гусиных шей с головами, и в пол они упирались четырьмя острыми клювами.