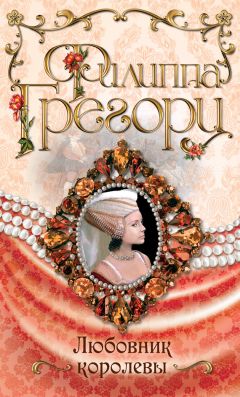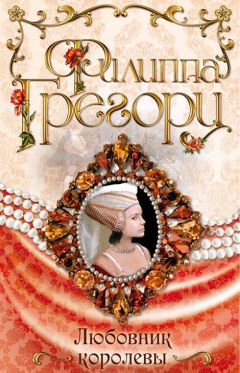— На Оке, Митрофанушка! Еоргафия — наука не дворянская! Извозчик на что?!
И тут уж не только в гостиной захохотали, но и Федька прикрыла рот ладошкой. Эта шутка о ненадобности географии, когда есть извозчик, была знакома и ей, и всей береговой страже — по два и по три раза бегали в Деревянный театр на Царицыном лугу смотреть «Недоросля» сочинителя Фонвизина.
Судя по голосам, в гостиной собрались четверо, и звали они друг друга диковинными именами: Дальновид, Световид, Выспрепар и Мироброд. Мало того — они друг к дружке обращались «брат сильф».
Все вместе, перебивая друг друга и вскрикивая «Выспрепар, пиши!», они поведали незримой Федьке историю про муромского воеводу, который наловчился брать взятки не просто так, кошельками и ассигнациями, а куда как более мудрено. Прибыв, чтобы исполнять должность, он повел тонкую игру. Когда именитые горожане и купечество явились с обязательными дарами, он те дары гордо отверг — он-де взяток не берет. Купечество закручинилось — ему необходим воевода, берущий взятки и оказывающий всякие послабления. К воеводе подослали умных людей, и те выведали тайну: более всего на свете обожает щучину — душу черту продаст. Направили знатоков к содержателю рыбных садков, и там они выбрали такую щуку, что тащить пришлось вчетвером в преогромном корыте. Было ей не менее сотни лет, и она, скорее всего, давно уж не съедобна, но коли дарить — так именно такое историческое чудище. Стоила она целых четыре рубля.
Воевода обрадовался, щуку унесли на поварню. И, когда кому-то из купцов понадобилось от воеводы снисхождение, он поехал к живорыбным садкам. Там ему показали щуку никак не менее первой, но спросили уже тридцать рублей. Купец обалдел от наглости, но, коли других подарков воевода не принимает, приходится платить. Несколько погодя другой купец тоже вздумал поклониться воеводе щукой, но самая большая в садках стоила уже сорок пять рублей.
На пятой или шестой щуке купечество заподозрило неладное. Выяснилось, что из садка на воеводскую поварню и обратно в садок разъезжает одна и та же гомерических размеров рыбина. Докопались также, что садки эти приобрел бывший воеводин крепостной, приехавший в город месяца за два до воеводы. Посмеялись — а вскоре сама собой возникла такса: когда магистрат просил о делах общественных, щука стоила под триста рублей, когда купчишка — сотню, а то и менее; откупщику, у которого возникли неприятности, рыба обошлась в пятьсот рублей. Жизнь наладилась, формально воевода служил образцом бескорыстия, и все были довольны.
Как Федька поняла, ныне этот воевода уже переехал в столицу и ходатайствовал о новом чине. А «братцы-сильфы» хотели ему в этом помешать. Как они раскопали историю со щукой — одному Богу ведомо. Сейчас же ее с хохотом записали, и возник спор — какие приметы воеводы вставить, чтобы весь Санкт-Петербург его признал.
— Про Муром в столице могут и не знать, — убеждал Шапошников, — а вот коли помянем бородавку на носу…
— Нет у него бородавки!
— Вспомнил! Сказывали — он и впрямь любитель рыб! Ему пьяного осетра с Волги доставляли! Живого!
— Мироброд, а не зарифмуешь ли с чем осетра?
— Братцы, сильфы, я придумал! Нужно написать двояко и свезти Моське — пусть решает, как лучше! Не то мы до утра воевать будем!
— Так что же, мне переписывать? — возмутился Выспрепар.
— Уи, мусью! И два раза!
— Черт с ним, с воеводой! У нас еще на очереди тот судья… — начал было Шапошников.
— Так с судьей-то дело темное. Не пойман — не вор!
— Вот! Раз некий воевода, любитель осетров и рыб иного рода, прослыть желая бескорыстным… бескорыстным…
— Ну? Ну?
— Браво, Мироброд!
— Да не галдите! Дайте с мыслями собраться! Дальновид, дай сюда бумагу…
Федька постояла еще немного, послушала про судью, который все важные дела передоверил секретарю, а тот и рад, приторговывая весами Фемиды. Потом ей наскучили подробности судейской жизни, и она пошла спать, а в гостиной продолжали совещаться, хохоча и время от времени взывая к авторитету Моськи, но о мужчине речь или о женщине, — Федька так и не поняла.
Келлер взялся за Саньку основательно — экипаж господина Мосса доставил их обратно. Румянцева, уже в своей одежде, повезли сперва к портному, потом в баню. Приставили такого мастера, что молодой и здоровый фигурант чуть в парной Богу душу не отдал. Он выполз в предбанник и рухнул на скамью, ощущая себя уже не на этом свете, а где-то на полпути к небесам. Ковшик кваса привел его в чувство.
В таком состоянии сразу лезть в сани нехорошо, и банщик накормил Саньку ужином. Потом его как можно скорее доставили в дом, где то ли жили, то ли гостили Келлер и Никитин. Санька добрел до своей комнаты во флигеле и рухнул на постель — спать, спать, спать…
Проснулся он рано — сквозь ставни еще не пробивался свет. Сперва было блаженство привольно раскинувшегося тела, складного, крепкого и послушного. Потом появились и мысли. Первая была — о ночном горшке, вторая — о Федьке. Именно этой ночью ему следовало добежать до Малаши, стукнуть в окошко, узнать новости и сообщить свои.
Стало малость неловко — Федька, не получив от него вестей, забеспокоится. Потом Санька сказал себе: она просто не знает, что сыскался сильный покровитель, узнает — сама обрадуется. Нужно просто исхитриться передать ей сегодня записочку. Не подписывать, мало ли что, а так изъясниться, чтобы она поняла, кто сочинитель.
Ломать голову спросонья над такой задачкой — занятие неблагодарное. Санька додумался до того, что в записке должен быть намек на нечто, известное только им двоим, но что бы это такое могло быть? Он старался не оставаться с Федькой наедине, общих тайных воспоминаний у них не было, а лишь такие, какие всем известны… Он уж решил просить помощи у Жана, мастера плести словеса, но вдруг сообразил. Они как-то, оставшись вдвоем в репетиционном зале, целых полчаса выплясывали первый дуэт из старого балета «Прометей и Пандора» — тот самый, в котором Прометей оживляет небесным огнем статую Пандоры и промеж них вспыхивает любовь. Обоим очень хотелось исполнить эти партии — и оба понимали, что не суждено, фигуранты о таких ролях могут только мечтать, и то молча — чтобы не засмеяли. Очень не любит береговая стража, когда кто-то из ее рядов вдруг выбивается, исхитряется рвануться ввысь.
Там ведь был не только танец — там происходило действо, там каждый жест исполнен смысла. Саньке нравилось передавать чувства движениями рук и всего тела, хотя ему редко выпадало такое счастье, разве что в причудливых плясках: адский призрак показывал зловредность, пьяный сатир — веселье. А Федька любила именно танцевальную часть партии Пандоры — она вообще плясала радостно, с огромным удовольствием. Ежели написать «От Прометея — Пандоре», то Федька догадается, кто прислал. Но Прометей и Пандора — страстные любовники, как бы ей чего лишнего на ум не взбрело…