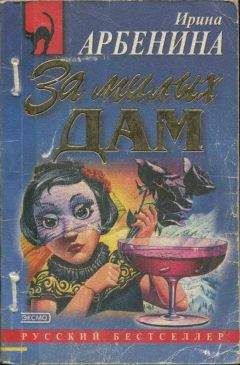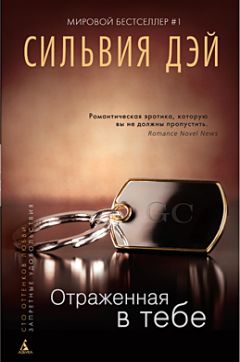С того памятного дня, поменявшего всю его жизнь, прошло больше трех лет… Женщины, пользовавшиеся его услугами, называли Зульфикара «дамским портным». Может быть, потому, что его телефон передавался, как телефон портного, массажиста, врача или косметички — от одной хорошей знакомой к другой, — когда возникала потребность в услугах такого рода… На счету у Зульфикара был неверный муж, попытавшийся уйти к юной возлюбленной, свекровь, вознамерившаяся переменить завещание и оставить наследников без приватизированной квартиры; хозяин фирмы — спал со своей секретаршей, а когда надоела, уволил с работы… ну и тот незадачливый кредитор — самый первый, так и не дождавшийся возврата своих денег.
Дамский портной… Юмор был очень черным, потому что речь шла скорее об искусстве кроя, чем шитья. О Зульфикаре зря не болтали… (Женская болтливость и неумение держать тайны, похоже, оказались мифом, или, возможно, это верно лишь в случаях, когда речь идет о женском умении хранить мужские секреты.)
Но его находили непостижимым образом, когда он был очень нужен, и те, кому он был нужен. Передавали втайне из рук в руки и очень ценили.
В книжечках о том, «Как разбогатеть…», говорилось, что следует найти на рынке услуг свою, не заполненную никем нишу. Получилось, что Зульфикар ее нашел. Не то чтобы в Москве до него не хватало киллеров… Но как их могла найти слабая обиженная и интеллигентная женщина? Не побежишь ведь разыскивать неизвестно куда «эту мафию»?! Скорее позвонишь подруге: поговорить, посоветоваться…
Очень важным оказалось, что Зульфикар не запрашивал сверхвысоких гонораров, которые не могли бы осилить уволенные и обозленные секретарши. И он, при всей жуткости своего ремесла, не пугал женщин, подтверждая старую истину: манеры для женщин превыше всего. Ведь он не был бандитом, бритым «быком», который «крутит пальцами», и, кроме той ненормативной лексики, которая приведена в словаре Даля, знал много всяких других слов и выражений. Приличный семейный человек с высшим образованием. Спокойный, вежливый.
Смущал клиенток, конечно, сам способ, так сказать, лишения жизни… Кое-кто предпочел бы, конечно, чтобы Зульфикар, скажем, использовал огнестрельное оружие… Это было бы как-то поизящнее, поромантичнее… Обидел женщину — получи пулю. Но Зульфикар не умел стрелять. Он вырос в башкирской деревне, и его односельчане сроду не видывали пистолетов. Зато у каждого из них были бараны. И вспарывать им животы — молниеносно, без возни и оглушительного верещания, без лишней крови, одним неуловимым движением — умел с детства каждый деревенский мальчик.
Вот такой тесак с самодельной рукояткой, сделанный из рессоры, и хранился у Зульфикара дома. Он привез его когда-то из родной деревни, куда ездил в отпуск. Зачем, и сам не знал… Пожалуй, это было что-то вроде ностальгии по детству… Запах детства связывался у Зульфикара в подсознании не с молоком и не с медом. Его детство пахло парным, только что освежеванным мясом. Зульфикар давно уже стал вполне городским человеком, и единственное, к чему он не мог никак привыкнуть, так это к безвкусному мороженому продукту, который горожане почему-то считали мясом. Даже рыночное мясо, обескровленное, подсохшее, пропутешествовавшее пару дней до прилавка, уже не имело той живительной силы, которой обладает только что заколотая, дымящаяся, алеющая свежей кровью плоть… Именно она питала силой степных кочевников, предков Зульфикара, и делала мужчину мужчиной. Без такого мяса Зульфикар скучал. Без него он делался вялым, холодным горожанином.
Между лестничной площадкой и квартирой Светловых существовало некое пространство — что-то вроде общего коридора. Соседи здесь держали детские санки и лыжи, а родители Ани Светловой — старый платяной шкаф, набитый доверху газетами и журналами, выкидывать которые — архив эпохи все-таки! — было почему-то жаль.
С того дня, когда Анины родители погибли в автокатастрофе, прошло уже больше трех лет, но она ничего, даже в самой мелочи, не изменила в квартире… Ей казалось: пока все здесь по-старому, частица их души остается рядом с ней.
Шкаф был скрипучий и с сюрпризом. Он не запирался, и стоило его чуть задеть — дверца со скрипом, сама собою отворялась… И непредупрежденный гость оказывался нос к носу со своим зеркальным отражением, поскольку на внутренней стороне дверцы было довольно большое зеркало. Гости женского пола были даже рады этому обстоятельству — можно поправить прическу, полюбоваться собой при параде.
Дверь «предбанника» запиралась чисто символически, как говорится, от доброго вора — на легкий слабый замочек, открыть который можно было запросто обыкновенной булавкой.
Анна попрощалась с Петром, в последнее время взявшимся ее провожать, возле лифта. Открыла замок и остановилась: в «предбаннике» было темно. Лампочка, по всей видимости, перегорела, и коридор освещался только четырехугольником света, проникавшего с лестничной площадки.
— Ну что там? — спросил ее Петр, уже вызвавший лифт, чтобы спускаться вниз.
— Темно, — пожаловалась Анна.
— Ну-ка погоди… — Петя отодвинул ее, шагнул вперед, в «предбанник», и остановился.
…Неизвестно, есть ли этому научное объяснение, но еще с детства Стариков обратил внимание: в темноте запахи становятся как бы сильнее. Возможно, потому, что зрение не может работать в полную силу, и тогда обостряется, работая за двоих, обоняние. У кого-то, верно, слух или осязание, а вот у Пети Старикова — нюх… Обоняние, которым он был щедро одарен от природы, как его прапрадед, владевший, по родственным преданиям, парфюмерной фабрикой.
Познакомиться с человеком для Старикова означало привыкнуть к его запаху. Симпатия, влюбленность, расположение — все это почти на сто процентов связывалось для Пети с запахом. По этой же причине особым испытанием были для него поездки в довольно вонючем московском метро, набитом чужими и часто скверно пахнущими телами. Не теснота, не толкотня, а именно запахи были для него главным минусом общественного транспорта. Какая-нибудь тетка, оказавшаяся рядом с ним в вагоне, от которой пахло грязными кастрюлями и несвежим бельем, могла испортить Пете самое безмятежное утреннее настроение.
Сейчас, перед дверью Аниной квартиры, окутанной обычными сладкими детскими Анютиными ароматами, чужой, неизвестный ему запах просто ощутимо шибанул Старикову в нос.
Спокойно, не дергаться, дал себе команду Петр, стараясь даже поворотом головы не выдать свое волнение. Но в узком коридоре могучий Стариков был, как слон в посудной лавке… Его слишком широкое для современной многоэтажки плечо тут же задело старый шкаф… Дверца сию же минуту, как по волшебству, с готовностью отворилась. Петя увидел в зеркале, что сзади на него надвигается какой-то силуэт. Все это произошло в считанные секунды. Фирменный стариковский удар — пяткой, вернее, каблуком в лоб — отбросил незнакомца назад. По кафельному полу, звеня, покатился жутковатого вида нож. Человек попробовал встать на четвереньки и отползти. Стариков ударил его еще раз…