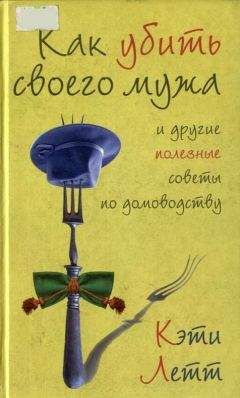– Твой что, не хотел ребенка? – спросила та же женщина.
– У меня мизерный оклад и у него – копейки… Наш ребенок умер бы с голоду, – процедила сквозь зубы Ольга, не узнав своего голоса.
– Другие же не умирают.
– А я не хочу, как другие. Он бы мне потом «спасибо» не сказал.
– Кто?
– Сын. – При слове «сын» потекли слезы.
– Вообще-то, может, ты и права, – задумчиво протянула собеседница. – Вон у меня трое. Денег в доме никогда не бывает. Сама хожу в обносках – правда, сестра иногда дает свое надеть… У мужика шапка уже двенадцатый год, вся рассыпается. Дни рождения справлять перестали, а живот все пухнет раз в год, это уж обязательно…
– И правда, бабы, они нам «спасибо» не скажут, – отозвался другой голос. – Асколько душ здесь летает, над потолками… Тело – это одно, а душа – совсем другое. Душа, она летает и вселяется в другое тело или, скажем, в цветок или бабочку. Я читала. Душа – она бессмертная.
– Целый улей душ, – усмехнулась первая женщина. – А я зато хоть отдохну здесь, дома-то некогда. Хорошо, обед сварила почитай на неделю, ведро щей да курицу с картошкой. Может, правда, все уже съели подчистую…
– Сизов, – позвала Ольга мысленно и ужаснулась своему виду, – ты не должен здесь находиться, нельзя…
– Так меня же и нет, – донеслось сверху.
– Женщины, мыться! – скомандовала сестра, раздавая всем бурые вафельные полотенца. – В очередь становитесь!
Ольга вышла вслед за другими женщинами в хмурый серый коридор. Полуголые женщины в широких, коротких, застиранных рубашках, прижимая к груди полотенца, молча разглядывали крохотную, тускло освещенную комнату, пол которой был выложен желтой плиткой. Каждая женщина, входящая в эту комнату, должна была мыться под струей, текущей из резинового шланга, причем на глазах всех остальных.
– Биде по-советски, – улыбнулась синими губами молоденькая девчонка.
– Это ад, – подумала Ольга. – Сизов, зачем ты напомнил мне самый страшный день в моей жизни?
– Так нужно. Я возвращаю тебе память. Ведь именно этот день отдалил тебя от мужа, ведь именно так началась твоя ненависть к нему.
– Зачем вообще мужья? Лучше умереть. Яхочу в парк, в театр, к Моцарту… Я не хочу возвращаться домой, в ад! – дико закричала она. – Я все вспомнила! Его зовут Сергей! Иэто он ненавидит меня! – Она рыдала уже в голос. – Я не хочу больше ничего вспоминать!
– Нельзя так отрываться… – осторожно сказал Сизов, – можно ведь не возвратиться… но ты же не можешь жить на парковой скамейке и питаться ночными фиалками. Ты должна приспособиться к той, настоящей жизни, которая тебя окружает. Нельзя опускаться, как те алкоголики, которые, чтобы не видеть ничего вокруг себя, пьют одеколон…
– Я готова пить хоть шампунь, только бы не домой! Меня там никто не ждет! Я была примерной девочкой, хорошо училась, ходила в музыкальную школу, читала книги, играла, смеялась, радовалась летнему дождику, гуляла, жила! Когда я выходила замуж за Сергея, он мне казался таким… таким… Апотом? Потом вся моя жизнь замкнулась на щах, стирке, штопанье носков да амбарной книге, где я записывала каждую потраченную копейку… Это унизительно, гадко!
– Так живут миллионы, – возразил Сизов. – Надо научиться любить жизнь.
– А я не хочу! Я живу только раз! Я не хочу просыпаться по утрам, потому что знаю: повторится вчерашний день. Все повторяется. Ирадости никакой… Мои ученицы в музыкалке играют каждый день одни и те же этюды Гедике и Черни, те же прелюдии Баха, что когда-то играла я… Я задыхаюсь в этом однообразии. А когда я вдруг почувствовала, что отрываюсь от земли и теряю память, я чуть не сошла с ума от радости! Что со мной? Почему все живут нормально, спокойно и не замечают всей серости и убогости своего существования, а мне так плохо? Почему? Чем я не такая, как все?
– Все люди разные, – резонно заметил Сизов.
– Я всегда куда-нибудь тороплюсь, меня все раздражает… Ну я прошу тебя, умоляю, Сизов, голубчик – верни меня в парк! Там так хорошо! Я буду спать на скамейке и питаться розами, пить воду из фонтана или пойду работать смотрительницей в краеведческий музей, чтобы больше никакая идиотка, вроде меня, не украла бабочек…
Ольга потрогала своих бабочек и оглянулась: она снова была в лодке. Опустив руку в темную воду, она смотрела на солнечные блики. Захотела улыбнуться, но не смогла…
– Сизов, – позвала она, – когда же ты, наконец, покажешься? Нельзя же так, на самом-то деле…
В руках у нее снова оказалось кофейное пирожное, которое она не доела в театре. – Как вкусно, Сизов! Если бы ты показался, я бы и тебя угостила… Не хочешь – как хочешь. – Она стряхнула крошки и взялась за весла.
Стемнело. Парк погрузился в сиреневую мглу, запахло кострами из сухих листьев, свежей водой, розами; верхушки тополей стали напоминать густые чернильные лужицы.
– Мне холодно, Сизов, – сказала Ольга. – Я замерзла и хочу домой.
– Тебе нельзя сейчас домой.
– Почему?
– Ты не вернула пряжку и туфельку.
– Хорошо. Только ты не бросай меня, ладно? Сизов, мне правда холодно и страшно… Я хочу домой. Меня там ждут и ищут, я это чувствую.
– Ты же только сейчас говорила, что тебя там никто не ждет и что ты не хочешь возвращаться…
– Ты измучил меня… Мне холодно… Уменя туфли промокли… Ой, смотри, молоко вытекло из пакетов. И редиска рассыпалась по дну лодки. Кошмар! Сколько же меня не было дома? И салат, наверно, весь в молоке, а банка с джемом… Сизов, ты здесь?
– Да, я с тобой.
– Помогли мне выбраться из парка, будь другом… Я ничего не понимаю – работаю веслами уже добрых пять минут, а лодка стоит на месте…
– Помолчи немного, – предложил он. Итут Ольга услышала со стороны маленького полуострова, на котором горело ярко освещенное летнее кафе, знакомую мелодию. На этот раз ее исполняли на саксофоне, гитарах и барабане.
– Бред какой-то, это же Моцарт! Что они сделали с музыкой? Они же исказили ее до неузнаваемости! И как они вообще узнали об ее существовании? Ведь ты же сказал, что он написал это «Анданте» после своей смерти? Сизов, – гневно крикнула Ольга, – это твоя работа?
И бросила весла.
– Ты сошла с ума! Зачем бы я стал это делать?
Неожиданно лодка сама мягко заскользила по направлению к кафе. Огни на воде стали ярче, навстречу показалась другая, точно такая же лодка, в которой она увидела своих отца и мать. Они, еще совсем молодые, о чем-то тихо говорили, а маленькая девочка в клетчатом платьице с куклой на руках мирно посапывала во сне, уткнувшись личиком в мамино плечо. Лодка мягко коснулась борта; девочка в клетчатом платье встрепенулась во сне, но вновь опустила головку на родное плечо. Ольга, затаив дыхание, смотрела на своих родителей, не в силах произнести ни звука. Они, казалось, совершенно не замечали ее. Когда кукла Катя оказалась на уровне Ольгиной руки, ей ничего не оставалось, как достать крохотную туфельку и нацепить ее на съехавший набок кукольный носочек. После чего лодка неслышно отошла и заскользила дальше, к причалу. Родители, занятые созерцанием красоты вечернего пруда, исчезли, словно их и не бывало. Скрылось и красное клетчатое пятнышко, растворилось в пространстве и во времени…