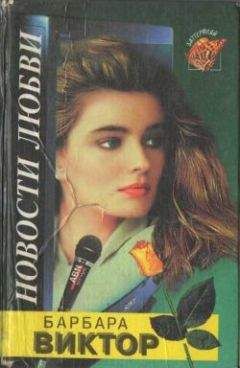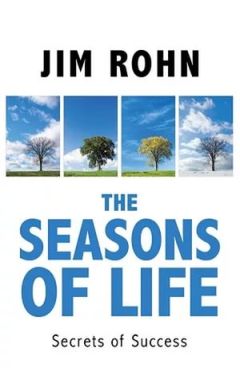В другой раз молодой ацтек, приехав в селение на роскошном вороном жеребце, сделал попытку подарить его Карлу. Карл решительно воспротивился; призвав на помощь все свои познания в ацтекских нравах и обычаях, он объяснил Винсенту-Виннету, что никак не может принять столь щедрый подарок – во-первых, он ничем его не заслужил, во-вторых, он еще не настолько хороший наездник, чтобы сесть на такого коня, не рискуя вызвать насмешки женщин и детей, и, в-третьих, у него, Карла, нет при себе ничего, хоть сколько-нибудь равноценного, чем он мог бы отблагодарить своего краснокожего брата.
Все это было сказано с предельной учтивостью, с соблюдением всех необходимых тонкостей, на хорошем, правильном языке предков, и наставник Карла, пожилой ацтек, присутствовавший при этой сцене, одобрительно кивнул и сделал знак Винсенту, чтобы тот не настаивал.
Молодые люди сошлись покороче, можно даже сказать, подружились, в тот день, когда Винсент привез с собой гитару. Собственно говоря, это была не гитара, а гитарон – без ладов, с укороченным грифом и дутой задней декой, похожей на дно перевернутого каноэ; низкий, басовитый, мужской инструмент. Но звуки, которые извлекал из гитарона молодой ацтек, были неожиданно мягкими, глубокими и нежными, словно голос женщины, поющей колыбельную. Карл, соскучившийся по музыке, сразу же отложил книжку, спустился в патио и подсел к нему, зачарованно глядя на его ловкие смуглые пальцы, перебирающие струны. Так они и просидели большую часть ночи под ясными, мерцающими, подмигивающими звездами, передавая друг другу инструмент и распевая на два голоса старинные, протяжные индейские песни – пока из окна наверху не высунулся сеньор Лопес и не велел им немедленно прекратить этот кошачий концерт.
Излишне говорить, что инструмент был также предложен в подарок, и его Карл с благодарностью принял.
Помимо этих дневных, так сказать, официальных, визитов, случались и визиты тайные, ночные, никому не известные.
Несмотря на то что дни Карла были заполнены до предела самыми разнообразными занятиями, что ум его с увлечением постигал древний, как эти горы, окаменевший в своей древности мир ацтеков, а душа радовалась вновь обретенным телесным возможностям, по ночам, свободным теперь от тяжкого, беспробудного сна, он тосковал по Мануэле. Часто на восходе луны он спускался в конюшню, седлал флегматичного чубарого или норовистую гнедую и отправлялся в долину.
Освоившись довольно быстро с местной географией, он свободно ориентировался в горах и точно знал, в какой стороне и на каком расстоянии находится гасиенда Лопес.
Однако ему и в голову не приходило нарушить данное тестю слово, и, проехав шагом несколько миль в нужном направлении, указанном голубым, низко висящим над горизонтом Сириусом, он со вздохом поворачивал коня и возвращался назад. Вернувшись, он часто лежал без сна на своей жесткой постели, глядя на звезды и луну в открытом окне, или брал в руки гитару и тихо, чтобы никого не разбудить, извлекал из нее мечтательные звуки.
А что же Мануэла? Она, что ли, тоже терпеливо ждала в своей спальне, посылая вздохи звездам и ночной темноте, или, как ей было предписано, предавалась благочестивым размышлениям? Да ничуть не бывало! Она-то сеньору Лопесу никакого слова не давала, да он его и не требовал, мудро рассудив, что брать слово с влюбленной женщины – дело совершенно бессмысленное и бесполезное; вдобавок он полагался на бдительность сторожей. Ибо теперь сторожили Мануэлу на совесть, и, кроме старой дуэньи, находившейся при ней практически безотлучно, под ее окнами постоянно прогуливались сменявшие друг друга кузены.
И все же Мануэла нашла способ обмануть и обвести вокруг пальца и бдительных сторожей, и справедливо не доверявшего ей отца. И не только нашла, но и воспользовалась этим способом без малейшего зазрения совести, причем не один, а несколько раз. О том, как все это происходило, можно было бы написать отдельный роман; но поскольку эта история не является для нас главной и поскольку даже наш герой не был осведомлен о подробностях, а лишь поставлен перед фактом ее неожиданного и чудесного появления в горах, не менее неожиданного и чудесного, чем тогда, в развалинах храма, – постольку и мы не станем на этом задерживаться, а упомянем лишь, что дело не обошлось без помощи той самой тетушки Мануэлы, женщины светской, которая заботилась о Карле и кормила его бифштексами с кровью и в которой любовная авантюра племянницы вызвала самое горячее сочувствие.
Из-за этих-то ночных визитов Карлу стоило большого труда хранить на своем посмуглевшем, навсегда лишившемся как аристократической бледности, так и веснушек лице выражение полной невозмутимости, подобающее мужчине, – в то время как ему хотелось петь, смеяться или, по меньшей мере, улыбаться во весь рот. Да, невозмутимое выражение, одобрительно отмеченное тестем, было всего лишь данью уважения к обычаям его народа, такой же данью вежливости, как и совместная охота, и участие в мрачноватых и неудобопонятных индейских празднествах, когда мужчины, одетые в старинные одежды, с раскрашенными лицами, прыгают вокруг ритуального костра с томагавками в руках и вопят.
Он не был членом племени, и от него не требовали, чтобы он тоже прыгал и вопил, но он должен был сидеть в общем кругу и демонстрировать всем крепость своих нервов, когда томагавки начинали рассекать воздух всего в нескольких сантиметрах от его лица.
Еще настоящему мужчине полагалось курить – и не какие-нибудь там сигареты с фильтром, а крепчайший местный табак. Карл, по причине слабых легких, никогда не курил, ему это было вредно, он и теперь, поправившись и окрепнув, не стал бы этого делать, но тесть подарил ему трубку, очень хорошую, отделанную серебром, и было бы верхом бестактности сразу же, при нем, не опробовать подарок. Тут тоже пришлось приложить немало усилий, чтобы тесть не заметил, что удовольствия от этого процесса он, Карл, получает еще меньше, чем от стрельбы по живым мишеням…
Карл, усмехнувшись, вспомнил, как сильно его тогда мутило – к счастью, уже после отъезда тестя. В следующий раз было легче, а потом он и вовсе освоился, но все равно предпочитал лишь делать вид, что затягивается – из той же вежливости и потому, что не испытывал к этому занятию ни малейшей охоты; мало, что ли, в жизни других вещей, которые действительно доставляют радость и удовольствие?
Но тестя он тогда все-таки провел. И вот теперь старик, отправив его на три дня в горы, не велел брать с собой трубку, желая, очевидно, поставить его в максимально жесткие условия и лишить всех атрибутов комфорта.
Карл усмехнулся снова и посмотрел на солнце – скоро полдень. Несколько съедобных корней, которые он отыскал и вырыл ножом у нижних ступеней пирамиды, и вода из ручья – вот и все, что было за последние сутки.