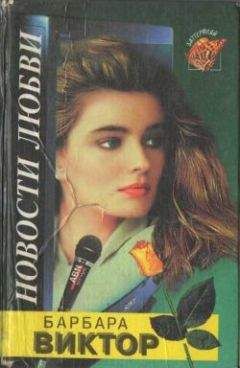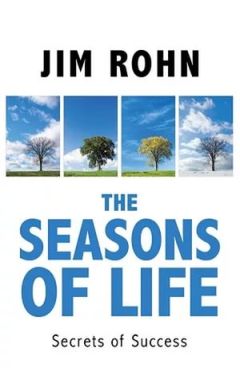Лизка, открыв рот, уставилась на появившегося в дверях Карла.
Аделаида вздрогнула. На ее щеках зажглись два алых, хотя и приглушенных пудрой пятна. Она слишком хорошо знала Лизку, чтобы надеяться, что та, морально уничтоженная, тихо и скромно вернется за свой столик.
Карл подошел к ним.
Аделаида собралась с духом.
– Карл, это моя знакомая, Елизавета Петровна Воронцова…
– Да он еще и иностранец, – промурлыкала Лизка, состроив Карлу глазки, – а скажите, вы что, в самом деле ее муж?
– Разумеется, – ответил Карл, глядя на Лизку с вежливым любопытством.
Но, поскольку она больше ничего не сказала, а лишь откинулась на спинку стула с выражением величайшего изумления на лице, он повернулся к Аделаиде:
– Делла, нам пора.
Аделаида перевела дыхание и взяла его под руку.
– Нам пора, – сказала она, – прощай, Лиза.
* * *
До своего временного пристанища в «Комарове» они добрались быстро и без приключений, если не считать того, что Карл дважды останавливал машину, открывал капот и копался в моторе, а один раз, взяв фонарик, зачем-то заглянул под днище. Он был молчалив, чем-то озабочен и хмурился, и Аделаида поначалу мучилась подозрениями, что это из-за нее, из-за ее неосторожно вырвавшихся перед Лизкой слов, которые ему, как истинному джентльмену, пришлось подтвердить.
Но вскоре она поняла, что он прислушивается к шуму двигателя, в котором его тонкий музыкальный слух улавливает нечто такое, чего там не было раньше. И это нечто тревожит его.
Аделаида же, как ни старалась, ничего не могла расслышать, хотя и сидела тихо, как мышка, и даже старалась не дышать.
После осмотра днища он, видимо, успокоился. Повернулся к Аделаиде и ласково спросил, не устала ли она.
– Нет-нет, ни капельки! – живо откликнулась Аделаида. – И очень хочу узнать, что было дальше.
Говоря так, она имела в виду вовсе не детективные истории; как всякой нормальной женщине, ей больше хотелось узнать, как складывалась его семейная жизнь, что за дама была эта его Мануэла и почему он в конце концов с ней расстался. Здесь, однако, ей приходилось рассчитывать не столько на его откровенность, сколько на свою женскую интуицию, умение читать между строк и слышать недосказанное.
– Дальше… – рассеянно произнес Карл, сворачивая на дорогу, ведущую в коттеджный поселок, – дальше… Дальше мы поселились в Мехико, и я начал работать в полиции.
* * *
Тесть на словах оказался более строг, чем на деле, и Мануэла получила подобающее приданое. Это позволило им сразу же, не дожидаясь карьерного роста Карла в департаменте полиции, снять уютную квартирку в Мехико и обставить ее в соответствии с собственными вкусами – точнее, со вкусом Мануэлы, которая со всем пылом и энтузиазмом молодой жены взялась за обустройство райского гнездышка.
Квартирка была расположена очень удачно, в самом центре города, рядом с парком; Мануэле было где гулять с малышкой, а Карлу, если у него не было желания по полчаса стоять в пробках, ничего не стоило за то же время дойти до службы пешком.
На службе у него, вопреки предсказаниям тестя, было не так уж много времени для размышлений; приходилось заниматься и оперативной, и разыскной работой, и масса времени и сил уходила на составление разного рода отчетов. Он не чурался ни того, ни другого, ни третьего вида деятельности, понимая, что должен набраться опыта и что кабинетное уединение нужно еще заработать.
Во время операций он действовал расчетливо, хладнокровно, осмотрительно, что давало ему преимущество перед экспансивными, лезущими на рожон мексиканцами. У некоторых его коллег это вызывало презрительную усмешку, у других же (и таких со временем становилось все больше) – наоборот, уважение. Но по-настоящему его признали своим после одного случая, когда он, расстреляв все свои патроны, имея в качестве балласта истекающего кровью напарника и будучи сам раненным в плечо, ухитрился-таки произвести задержание. Тогда у него появились друзья и среди тех, кто выше всего ценит не интеллект, а физические данные и личную храбрость.
Вместе с друзьями, естественным образом, появились и враги. В основном это были завистники, считавшие, что бывший иностранец слишком уж быстро продвигается по служебной лестнице; Карл и в самом деле к тридцати годам дослужился до майора и возглавил аналитический отдел департамента (в котором, кроме него, работало всего три человека, но тем не менее…).
В числе недоброжелателей с самого начала значилась и такая важная персона, как окружной прокурор. Это уже был враг серьезный, идейный, убежденный сторонник борьбы за чистоту рядов, считавший, что всяким там гринго, хотя бы и натурализовавшимся, не место в наших правоохранительных органах, – и эту свою точку зрения прокурор отнюдь не считал нужным держать при себе.
Конкретных, впрочем, претензий к работе Карла у него не было, да и не могло быть, потому что в работе Карл был аккуратен, педантичен и добросовестен – не менее, чем в любимой, временно отставленной, но отнюдь не забытой археологии. К тому же со временем он научился так писать отчеты, что в них буквально не к чему было придраться.
Если бы кто-нибудь в то время спросил его, доволен ли он своей жизнью, он, скорее всего, ответил бы утвердительно, хотя и не стал бы вдаваться в подробности. Если бы тот же вопрос задали его жене, ответ мог быть любым – в зависимости, например, от того, кто спрашивает, какая нынче погода, но главное – в каком расположении духа находится сама Мануэла.
Мануэле часто приходилось нелегко – и неважно, были ли жизненные трудности, видимые ею, истинными или мнимыми; и те и другие она переживала с одинаковой силой и страстью.
Начать с того, что она страстно желала (нет, была просто одержима желанием!) родить сына, наследника славных традиций и будущего вождя ацтеков. Но, как часто бывает в таких случаях, у нее рождались только дочери, одна за одной – Лаура, а затем Каэтана и Лусия.
Если после рождения Лауры она была просто разочарована и вид Карла, который, подобно многим молодым отцам, притаскивал домой кучу совершенно не подходящих по возрасту игрушек и книг и подолгу просиживал рядом с колыбелькой, вместо того чтобы уделить внимание молодой матери, вызывал у нее сильное, хотя и маскируемое на первых порах, недовольство, то появление на свет крошки Каэтаны вызвало настоящий приступ раздражения.
Едва вернувшись домой из родильного отделения дорогой частной клиники, она устроила мужу сцену, обвинив его в несостоятельности.
Карл, который ничего не имел против рождения второй дочери, отнесся к сцене философски; к тому же он знал (то ли где-то прочитал, то ли об этом ему рассказали на работе), что такие истерики для недавно родивших женщин – обычное дело, притом поводы для истерик могут быть самые несуразные. Когда миновала острая стадия, с криком, слезами и битьем старинной ацтекской керамики, он постарался утешить и успокоить ее, благо точно знал, что для этого нужно делать.