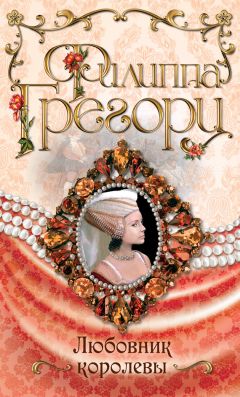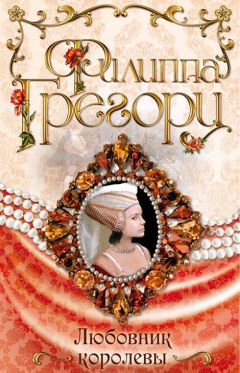Это было настоящим приказом.
— Если Ухтомские ни при чем, то след мимо них ведет в лисицынский особняк. Всю эту интригу мог бы изобрести их ненаглядный дядюшка Лисицын, — заметил Выспрепар.
— С него станется. Он не больно хитер и ловок, но подлые мысли ему в голову приходят исправно, — отвечал Дальновид. — Я уж думал об этом и понял, что ему от смерти дансерки прямая выгода — в том случае, если убийство раскроется и все улики укажут на Ухтомских, на князя Ореста и на его брата. Тогда он остается единственным наследником своей сестрицы.
— Когда злодеяние Ухтомских станет явным, их будут судить, лишат чинов, посадят в крепость, статочно, сошлют в каторгу. Дядюшке с того один срам. Да трата денег — надо ж будет судей подмазывать, подарки дарить… — тут Выспрепар усмехнулся своей нехорошей улыбкой.
— Бедняжка… — вдруг сказала Федька.
— Кто? — чуть не хором спросили сильфы.
— Мать… княгиня Ухтомская… двоих сыновей разом потерять… вот кого жаль-то…
— Ну, Фадетта, ты ее не знаешь. Она дама сердитая. Вряд ли станет рыдать — а вот вычеркнуть сгоряча деток, опозоривших семью, из завещания… — начал Световид.
— А кто тогда останется в завещании? — задал вопрос Выспрепар. — А любезный братец княгини, дядюшка Ореста с Платоном, господин Лисицын. С братцем она дружит, когда не ссорится. И, для приличия, сестрица, госпожа Васильева с дочкой Марфинькой.
— Так вот же все и сходится! — воскликнул Дальновид.
— Хотя отправить в Сибирь родных племянников — это даже для него слишком, — хмуро ответил Световид.
— Что касается родственных чувств — то в семействе Лисицынх их великая недохватка, — выразительно сказал Выспрепар.
— Да уж, — подтвердил Дальновид. — Выходит, он. Больше никому от смерти дансерки пользы не предвидится. Световид, а ведь ты не думал, будто кашу заварили Ухтомские! Ты хотел, чтобы они оказались виновниками, разве не так? И знаешь ли? Ты не хочешь поглядеть правде в глаза, Световид. С твоим умом, с твоей душевной силой, и бояться правды? Да возьми же себя в руки!
— Дальновид прав, — присоединился Выспрепар. — Ты очень желал бы верить, что два щеголя, два гвардейца, два избалованных сынка сподвиглись на убийство Степановой. Хотя с виду — их труды: признать перед всем светом, что повенчался на дансерке и она в тягости, значит, крепко рассориться с родней. А родня, как донесла нам сильфида Миловида, сильно желает женить обоих братцев на богатых невестах и уже присматривает подходящих.
— Давайте наконец изменим дефиницию, — пылко предложил Дальновид. — Убить Степанову приказал не господин Лисицын. Убить Степанову приказало семейство Лисицыных! Тогда нам сразу станет легче и удобнее…
Федька ничего не понимала и на всякий случай молчала.
— Нет, — сказал Световид. — Это невозможно. И хватит об этом.
— Вот что — если тот, кто убил дансерку, хочет навести свет на мысль, будто это сделали Ухтомские, то он озаботится уликами. Давай побьемся об заклад? — предложил Дальновид. — Не позднее, как на первой неделе поста явятся улики, управа благочиния возьмет след, ведущий к Ухтомским! И улики будут им поднесены на тарелочке севрского фарфора с амурной картиночкой!
— Господа! — вдруг закричала Федька. — А что же Шляпкин? Коли он дружил с Волчком и пропал — так, может, и его порешили?
— Фадетта права! — воскликнул Дальновид. — До сей поры мы не могли понять, замешан ли Шляпкин в эту историю, а теперь ясно — замешан! Надобно его искать, да поживее!
— Кого можно о нем расспросить, Фадетта?
Бянкина задумалась. И вдруг вспомнила.
— Васька-Бес! Да только он ничего не скажет!
— Как это — не скажет? — удивился Выспрепар. — Немой он, что ли?
Федька рассказала, как ночью Васька отогнал от нее преследователя и заявил, что доносчиком не был и не будет.
— Занятный герой, — сказал Световид. — Каких только чудаков не поставляет миру береговая стража…
— Он не знает, что Волчок опасно ранен. Если узнает — может, перестанет корчить из себя древнего римлянина? — спросил Дальновид. — И, сдается, прозвучала фамилия машиниста Платова. Кто-то из нас мог бы сегодня к нему сходить.
— Платов лежит без чувств, — вдруг заговорил Сенька. — Он же пьет, как лошадь. А вчера все были пьяны.
— Ты с ним ладишь? Коли да — сходи к нему, авось что узнаешь и про Волчка, и про Шляпкина, — велел красавчику Сеньке Световид. — Все равно у тебя сейчас иных дел нет. Прогуляйся по холоду, из тебя остатки хмеля выдует. Ступай.
Сенька посмотрел на Федьку — что означают такие приказы и надо ли повиноваться?
— Ступай, ступай, — подтвердила Федька. — Да про Шляпкина расспроси поточнее! А то я тебя знаю…
— Расспрошу.
— Что-то не внушает мне доверия сей красавец, — вдруг сказал Выспрепар. — Где наш Потап?
— Точно! — закричал Дальновид, выскочил из комнаты и поскакал по коридору с воплями: — Потап Ильич! Потап Ильич!
Потом Потап увел Сеньку, а Дальновид, любитель всюду сунуть нос, полюбопытствовал, что за неприязнь между красавчиком и Шляпкиным.
— Да вроде Шляпкин ему туфли изнутри клеем мазал, а он потом Шляпкину пряжки попортил — тот моряцкий танец плясал, правая туфля с ноги сорвалась и в партер улетела, смеху было! — Федька невольно засмеялась, вспомнив тот вечер, когда спектакль не задался — все скользили, падали, Ванюша Вальберх, отменный танцовщик, и тот налетел задом на колонну, да так, что рухнула она поперек сцены.
— Экие у вас нравы, как у детишек, — проворчал Выспрепар.
— Дети и есть, — ответил Световид. — Коли актер не дитя, то в театре ему делать нечего.
Федька недовольно отвернулась. Опять Световид явил свое высокомерие!
Говорить ему прямо о том, что с людьми так обращаться нельзя, она не стала. Но, когда сильфы разлетелись по делам, она удержала Дальновида. В маленьком, шустром, языкастом человечке она угадала родственную душу — и ему пришлось в жизни наслушаться пакостей, и он, поди, знал, что такое безответная любовь. Из всех сильфов этот ей понравился больше прочих.
— Он хоть о ком-то в жизни сказал доброе слово? — прямо спросила Федька. — Или всех язвит, как аспид какой?
— Он человек причудливый, — сказал Дальновид. — Плакаться ему на свои беды бесполезно. Он и не дослушает твоих иеремиад, пойдет прочь. Помогает людям тогда, когда сам сочтет нужным. Вот меня он подобрал пьяного в зюзю на Смоленском кладбище. Я, статочно, шел туда помирать и провалился в могилу. Что он в тех краях делал в поздний час — не знаю и никогда не узнаю. Из могилы он меня вытащил, а я в благодарность изругал его матерно. Это ему, видать, понравилось.