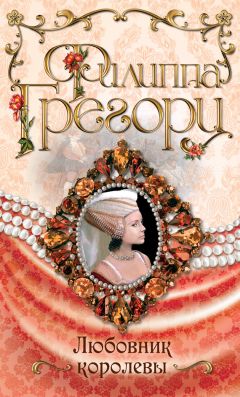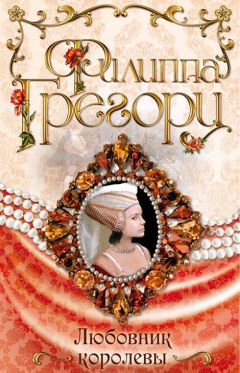— Ой… — ответила Федька, вдруг заметив, что в дверях стоит Световид и с любопытством слушает приятеля.
— Мы с Миробродом оба либертины, — сказал Шапошников, — но я практический, а он — теоретический. Ему приятно рассуждать и писать о колебаниях любовного барометра — вверх-вниз, а я свой барометр в дело пускаю реже, чем хотелось бы. Но тебе, сударыня, этого опасаться не стоит. Хотя я и приглашаю на прогулку, которая иным барыням показалась бы предосудительной. Мы будем вдвоем — и в лесу.
— Тех барынь отправить бы зимой в лес амуриться! — встрял Дальновид, немного смущенный.
— Иных любителей и стужа не испугает, — усмехнулся Световид. — Обувай сапоги, сударыня, надевай полушубок. Тебя ждет кое-что занятное.
— Сейчас буду, — холодно отвечала Федька и ушла в палевую комнатку.
Она собралась очень быстро и вышла на крыльцо.
— Сюда! — крикнул Световид.
Он, также в полушубке, ждал, сидя в санях у распахнутой калитки.
— Садись, Фадетта, у нас немного времени.
Кучер Пахомыч хлопнул длинными вожжами по конскому крупу, сани выкатили из ворот, понеслись в сторону Коломны; не доезжая, своротили налево, миновали матросские казармы, пересекли по льду Фонтанку там, где строился новый мост, и покатили дальше; остановились у шлагбаума, означавшего границу города, оставили слева какое-то жалкое селение, выехали Петергофской дорогой в поля, потом — в лес, и все — на юг, на юг…
Световид молчал, глядел прямо перед собой.
— Куда ты везешь меня, сударь? — спросила Санька.
— Хочу поглядеть, на что ты способна. Испугаешься ли — или блеснешь мужеством.
Федька отвернулась. Ей уже давно не нравилось, как Световид распоряжается чужим временем и даже чужими судьбами.
Наконец сани выкатили на открытое место, и более того — Федька увидела перед собой парковую ограду и вдали, сквозь голые черные ветки, дворец.
— Что это? — невольно спросила она.
— Стрельня. Несостоявшийся наш Версаль. Здесь на мызе одного моего приятеля, в его конюшне, стоят верховые лошади. Я уговорился, что могу их взять. Они нам, похоже, понадобятся. А заодно поучу тебя ездить верхом. Ты ведь не боишься лошадей, как наши щеголихи и вертопрашки?
— Нет, сударь, чего их бояться?
Федька имела в виду, что от упряжных лошадей не шарахается — они в хомутах и оглоблях, а если богатая запряжка четвериком или шестериком, то и в шорах. Если не прыгать под самые копыта, а благоразумно подождать, пока лошади пробегут мимо, то и страха никакого нет.
Но когда конюшенный мальчик вывел из стойла гнедую кобылу, при которой не было никаких оглобель, вообще ничего не было, кроме недоуздка из тонких ремешков, Федька малость струхнула.
— Я сам оседлаю, — сказал Световид. — Ну, ну, стой смирно, моя красавица.
Бянкина подумала: с лошадьми-то он любезен! И вдруг вспомнилось слово «мизантроп» — фигурантки совещались, сходить ли на спектакль французской труппы, ставившей комедию Мольера о нелюдимом чудаке, да побоялись сложностей французской стихотворной речи.
— Изволь, Фадетта, — Световид красивым жестом указал ей на кобылу. — Левую ногу — в стремя, правой резко оттолкнись, у тебя получится. Держись двумя руками за седельную луку. Было бы время — поучил бы прыгать на лошадь без всяких стремян, но времени нет.
— И незачем, — отрубила Федька. — Я в берейторы служить не пойду.
— Так и государыня наша в берейторы не готовилась, а ездить верхом училась правильно — сперва без стремян.
В седло Федька села быстро и ловко — девица, делающая во время утреннего урока чуть не сотню глубоких плие по всем позициям, не станет себя втаскивать на лошадь, вцепившись в луку, как утопающий в соломину.
Пока она осваивалась — а больше всего смущало, что не видна кобылья морда, — Световид сам оседлал и каракового мерина. В седло он вскочил с такой же ловкостью — чувствовалось, что его конной езде смолоду учили, и учили на совесть.
— Едем в лес. Там коли и свалишься, то в снег, это не страшно, — сказал он. — У тебя должны быть сильные шенкеля, ты очень скоро усвоишь правильную посадку. Для первого раза от тебя много не потребуется.
— Усвою, господин Световид, — мрачно пообещала Федька.
И точно — полчаса спустя она уже отважно скакала галопом по лесной тропе, а Световид — следом.
Федька впервые в жизни оказалась в зимнем лесу. На охоту ее никогда не звали — она не имела знакомцев, которым по карману своры собак и полки загонщиков. Кататься на санях — тоже. А пешая прогулка по пояс в снегу — это удовольствие разве что для безумца.
Лес поразил ее свежестью и роскошью. Пышные снежные подушки на раскидистых еловых лапах казались вечными — такая красота не имела права таять. Но небо, серое зимнее небо, уже обретало понемногу голубизну — пока еще слабую, нерешительную предвестницу летней синевы. И если запрокинуть голову — то над острыми верхушками елей и округлыми верхушками сосен, над белизной, была глубина — такая, что и не снилась ни одному театральному декоратору.
Пейзаж в Федькином воображении был неразрывно связан с задниками, на которых обыкновенно умещается целый мир и сходятся вместе явления, которые в природе разделены сотнями верст. Лес был однообразен — но в однообразии чувствовалось особое великолепие. А главное — сбылась детская мечта уйти в театральный задник, по тропинкам, что ведут к греческим храмам, ручьям меж камней и водопадам, вверх и потом вниз, к морским берегам, у которых несколькими взмахами грубоватой кисти набросаны причалы и парусные лодки. Лодок не было — а пейзаж был, и принял в себя, и кинул под конские копыта тропу, и мелькал справа и слева, и раскрывался впереди большой поляной.
— Стой, довольно! — закричал Световид. — Поворачивай лошадь. Нам еще домой их вести.
— Еще немного! — крикнула Федька, обернувшись.
— Хватит, хватит! Теперь я уверен, что ты при нужде проскачешь пару верст и не свалишься в канаву.
Федька прекрасно понимала — Световид учит ее не ради удовольствия, а ради своих загадочных затей, и деньги заплатит за покорность. Но сердце не выдержало — взбунтовалось. Федька разозлилась так, что впору глаза выцарапывать и космы выдирать — как задравшиеся на торгу пьяные бабы.
— Господин Световид, тебе дела нет до того, что чувствуют другие люди! — выкрикнула она, подъезжая. — Ты — мизантроп! Мы, береговая стража, не пишем философических писем, у нас шутят злые шутки, но мы добрее! Тебе наплевать на мои чувства, на чувства Румянцева, и на Бориску Надеждина тоже наплевать. Думаешь, я не вижу ехидства, когда он читает куски из своего «Словаря», не вижу твоего глумления? Ты просто жестокий человек!