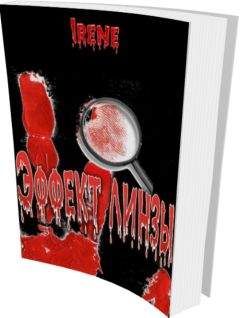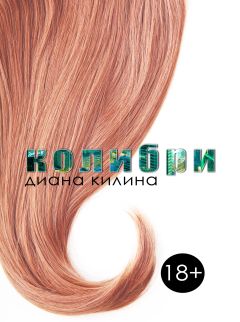Сегодня, в понедельник, было особенно холодно и казалось, что с низких серо-бежевых туч вот-вот сорвется первый снег. Я поднял воротник пальто, чтобы ветер перестал задувать, как говорит мама, «за душу», но от дикого пронизывающего холода это все равно не спасло — я стоял на верхней площадке перед входом, на возвышении, и здесь продувало насквозь. В школьном дворе никогда не бывало так людно, даже на выпускной — люди заполонили весь двор, и скоро перекрыли даже подъездную дорогу. Полуопустив веки, я смотрел, как толпа сгущается, стягивается к центральному входу, туда, куда пару минут назад поднесли Лешу. Странное дело, у многих на лицах было написано явное праздное любопытство. В ту секунду мне стало жутко. Я поежился, пытаясь отогнать мысли о том, что половина этих людей вообще не знала, кто такой Алексей Литвиненко, а теперь, прочитав в местной газете, попросту хотели взглянуть на него. Господи, как в музее… Я мотнул головой, собираясь с духом, и пролетел взглядом по лицам стоявших вокруг коллег и школьников, однако уже решил, что смотреть вниз, туда, куда, слегка наклонившись и вытянув шеи, всматривались зеваки, точно не буду. Увидеть его таким хотя бы мельком — выше моих сил. Увидеть его щеки бледными и безжизненными, вспоминая его яркий задорный румянец, рану на его голове, — мне это просто не под силу. Я отвернулся, мрачно взглянув на пачку сигарет, крепко зажатых в руке, и подумал, что иногда наши самые жгучие желания бывают удивительно простыми — я мечтал о том, как пойду за угол школы, под окна туалета, где постоянно ошивался сам Леха, и выкурю одна за другой полпачки, пока не затошнит и голова не станет кружиться. После этого я уйду домой и буду спать, по крайней мере, постараюсь уснуть. Очень-очень постараюсь.
Перед самой церемонией прощания Алла Ивановна попросила, чтобы я следил за учителями и, особенно, учениками 11-А класса — возможно, кому-то из них потом может понадобиться моя помощь. Однако лица ребят были сдержанно-печальными, не более. Несколько девчонок плакали, Дима Гуць изредка вытирал набегавшие слезы — его губы слегка дрожали от нервного напряжения. Коля Жженов и Вадим Феськов, опустив головы, стояли поодаль одноклассников, иногда молча переглядываясь. Ближе всех, практически около матери Лехи, обхватив плечи руками, замерла Вика Ольшанская. Я недоверчиво прищурился: странно, но мне показалось, что она сейчас вообще не здесь. Лишь на секунду на ее лице отобразился весь спектр истинных эмоций — и это был ужас, дикий, неконтролируемый, от которого буквально перехватывало дыхание. Вика рывком убрала со лба короткую прядь волос, будто бы этим движением пыталась стереть испарину. Я приподнял брови. Мне кажется или ее страх вызван совсем не печальной церемонией? Сине-зеленые глаза Вики в тот момент были будто стеклянными, и она изо всех сил пыталась сдержаться, чтобы не закричать и не заплакать — отчаянно кусала губы, а потом и вовсе закрыла ладонью рот. После этого она глубоко вздохнула и ее взгляд скользнул по лицам людей. Похоже, Ольшанская заметила, что привлекла мое внимание. Я отвернулся.
Над школой звучали такие странные и пугающие прощальные речи, на древке флага развевалась на ветру черная ленточка. Прикосновение смерти к месту, где всегда бурлила жизнь, знания, планы на будущее, заставляло всем телом чувствовать тяжесть и внутренний трепет. Но когда где-то, будто бы вдали, раздался звонок, я понял, что ничего более страшного за свою жизнь не слышал. Это был последний звонок для человека, который никогда не окончит школу. Действительно последний. Толпа всколыхнулась, казалось, вместе с ней вздрогнуло само здание, и в этот миг я заметил, как далеко, почти на самом краю двора, от недвижимой людской массы вдруг отделился и спешно бросился прочь темный силуэт.
Едва в воздухе растаяло эхо звонка, классной руководительнице 11-А, Светлане Борисовне, стало плохо. Люди начали хаотично перемещаться, все смешалось, завертелось, но пронзительный жуткий звук по-прежнему звучал в моей голове и догонял везде, куда бы я ни ступил. Некоторые двинулись ближе к рыдающим матери и отцу Лехи. Школьники толкались и тихо ругались, наступая друг другу на ноги. Родители одноклассников Литвиненко спешили к Светлане Борисовне, слышался плач, всхлипывания, утешительные слова… Однако мое внимание прочно приковала та смутно знакомая тень, что уверенно продвигалась между людьми прочь от овеянной трауром школы. Я, с раздражением пробираясь сквозь толпу зевак, бросился следом, сам толком не понимая, что и зачем делаю, и гнался за ним около трехсот метров. Лишь когда человек остановился в месте для курения за западным крылом и скинул капюшон, я понял, кто это.
Высокий темноволосый парень, вечно молчаливый и флегматичный. Таким я его запомнил, всего несколько раз увидев в школе. Как же его зовут… а-а-а, кажется, Витя… Витя Сдобников. Точно.
Он закрыл лицо руками и присел на каменном порожке. Его пальцы слегка подрагивали, хотя сам он казался, как обычно, не слишком эмоциональным. Я приблизился и поравнялся с ним, чтобы не испугать. Сдобников на секунду замер и смерил меня удивленным взглядом.
— Что?
Хороший вопрос. Я достал сигарету, прикурил и, наконец, принялся за исполнение своего жгучего желания.
— Ничего. Холодно сегодня.
Он глянул на меня, как на сумасшедшего, брезгливо прищурился, но все же кивнул.
— Вы психолог новый?
— Да. Не такой уж и новый, конечно, — я присел рядом с ним. — Но тебя ни разу на беседе не видел.
Он хмыкнул.
— Я на них не хожу. Сам себе псих.
— Люблю, когда меня так называют, — я изобразил нечто похожее на улыбку. — Ты куришь?
Он отрицательно помотал головой.
— Ну, хоть кто-то будет здоровым в этой школе. Молодец. Ты не против, если я?..
— Нет. Я, вообще-то, хотел побыть один… Понятно?
Витя отвернулся. Я почувствовал себя неловко, размышляя, почему вообще очутился тут вместо того, чтобы утешать убитых горем родителей и друзей Литвиненко. Нет, что-то в Сдобникове и том, как быстро он бежал со двора от того жуткого звонка, было неправильным, но пока я не мог понять, что именно.
— Ты тоже боишься похорон?
Он помолчал, но потом все-таки ответил:
— Не боюсь. Просто… — быстро шмыгнул носом. — Не хочу там находиться… противно это…
Я повернул голову и озадаченно нахмурился.
— То есть?
— А то и есть. Любили они его все, как же…
— Ну, на самом деле, там много людей, которым он действительно был дорог.
— Ага, — Витя зло усмехнулся. — Задроты наши его любили. И Ольшанская тоже. И все, сука, стоят такие печальные! И плачут вроде… Да завтра же они вздохнут с облегчением и забудут о нем.