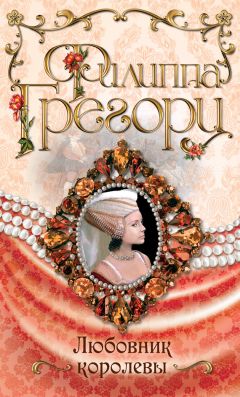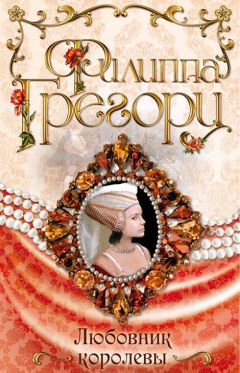— Я не хочу говорить об этом, господин Световид.
— Я пережил это, Фадетта. Мне было примерно столько же лет, сколько тебе, но мой мир был даже более узок — люди, которые любили меня, книги, живопись, музыка, породистые кони, охота. Даже врагов не было — так мне казалось. Когда все это рухнуло… Знаешь ли, я даже благодарен людям, из-за которых лишился того мира. Я увидел новые просторы, новые возможности, завел, наконец, друзей. Правда, все это получилось не сразу. Цыпленку, который пробивает клювиком скорлупу, тоже, наверно, неуютно, когда кругом столько пустого места. Но если он останется в скорлупе, то никогда не станет петушком или курочкой.
Вошел Григорий Фомич.
— К вашей милости господин Надеждин.
— Проси, — велел Световид. — Одно благо — ему в середине марта сдавать словарь в типографию, и эта кара Божья кончится. Я только сперва загляну в наш лазарет. Идем, Дальновид. Может, то, что услышишь, пригодится при визите к Лисицыным.
Тут Федька поняла, что все складывается отменно — еще миг назад она не знала, что Бориска ей необходим, а теперь отчетливо это поняла.
— Мне не нравится, что у них там творится, — сказал Дальновид. — Я ходил спозаранку за стрелой — так к забору не подойти, сторожа ходят кругом и перекликаются, как стрельцы на кремлевских башнях при царе Алексее. Что-то у них стряслось, что — не понять. И дальше крыльца меня, боюсь, не пустят.
— Тогда вся надежа на Миловиду. Она что-нибудь придумает. Надо бы послать туда Тимошку, пусть послоняется, авось что поймет.
Бориска этим утром был в странном состоянии человека, завершающего длительный труд, который в смятении ищет, чего бы еще туда добавить для полного восторга и благолепия.
Великий пост — это целая неделя отдыха от плясок. И Бориска решил целиком посвятить ее своему «Танцовальному словарю». С утра обложившись французскими книгами, он в прекрасном расположении духа откапывал всякие полезные и забавные сведения.
Он вдруг раздобыл превосходное и весьма длинное описание бала, который дал Людовик Четырнадцатый по случаю бракосочетания герцога Бургундского. Надобно было лишь хорошо перевести, а это он наловчился. А что длинное — так даже хорошо, книжка получится толще и продать ее можно будет дороже. Потом нашлось французское описание греческого танца, именуемого «кандиот», да еще снабженное гравюрами. Оно прямо-таки взывало: меня перетолмачь, сперва — меня!
За перевод Бориска взялся с трепетом.
Греческие танцы ему доводилось исполнять — как же без них в балетах, где отплясывают античные боги, нимфы, фавны и просто влюбленные поселяне? Но сейчас он мог прикоснуться к подлинно греческому танцу — тому, который упоминал сам Гомер в изображении Ахиллесова щита. Для человека, не знакомого с Гомером, это служило почтенной рекомендацией. Если бы Бориска нарочно полез за тем щитом в «Илиаду», то был бы немало удивлен — греческий слепой певец разместил на круге чуть более аршина в поперечнике столько всякого добра, что поневоле рождалось сомнение: фигурки, которых там по самым скромным подсчетам было не менее сотни, следовало бы разглядывать через лупу, а какой в этом смысл?
На гравюре древние греки с гречанками изображали нечто вроде русского хоровода. Но картинка скорости не передает, и Бориска старательно переводил: «… все собрание танцует в кругу с толикою точностию и скоростию, что оборот колеса не может сравниться с быстротою оного; иногда же круг танцующих как бы разрывается, и все, держась рука за руку, делают множество кругов и оборотов…»
Наконец дошло до гравюры, где изображались банные танцы. Этот жанр хореографии привел Бориску в смущение. Танцовщик конечно же ходил в баню — зимой она была и отрадой, и исцелением. И девиц, весьма вольно одетых, видывал — в театре оно как-то само собой получается. Но его смутило описание: «Гречанки часто собираются в банях, где неоднократно можно видеть образец живой Горациевой картины; ибо тут женщины сии находятся совсем нагие и танцуют точно так, как грации с нимфами». Он не понимал, отчего бы этим древним гречанкам не одеться и в чем прелесть скакания голышом.
Гравюра и описание так соответствовали друг другу, как если бы литератор творил, не отводя взора от юных дев в высоко подпоясанных платьях и высоких сандалиях, отделанных жемчужными раковинами и золотым шитьем. Бориску не смутило, что пеплос назван флеровой рубашкой, — французскому сочинителю виднее. А сочинитель живописал гравюру с нежностью и страстью, так что Борискино перо, черкая по бумаге, невольно сими чувствами заражалось, и танцовщик сам с восторгом перечитал последнюю фразу: «Платье из легкого штофа, как бы наклеенное на ея теле, показывает всю ея приятность и тонкость».
Отвлекшись от перевода, он затосковал — когда еще на российском театре появятся легкие и удобные для танца одеяния; когда бедные дансерки перестанут туго шнуроваться, так что лишь долгий и опасный обморок даст всем понять: бедняжка брюхата и месяца через три ей рожать.
То, что древние гречанки танцуют старую французскую бранль, Бориску не смутило. Он наслаждался собственным успехом, страницы лексикона так и мелькали. Вдруг он удержал нависшую было над бумажным листом руку с пером — но не сумел удержать сорвавшуюся чернильную каплю, которая расплющилась в преогромную кляксу.
С горя Бориска лег спать. Наутро он собрал весь «Танцовальный словарь» в кучу. Образовалась гора бумаг, которую в руках не унесешь, а разве что в наволочке. Бориска отыскал длинную веревку и увязал свое сокровище. Потом некоторое время смотрел на будущий словарь и вздыхал — во-первых, предчувствовал, как мучительно будет расставлять все словарные статьи по местам, а во-вторых — совершенно не желал расставаться с трудом, который занимал его более года. Он бы охотно и дальше копался на досуге в книжках, делал выписки, сличал измышления французов с собственным опытом. Писать о танце оказалось увлекательнее настоящих танцев.
Потом он отправился к господину Шапошникову — задавать последние вопросы.
В гостиной он обнаружил Федьку, одетую в мужской костюм. Это его совершенно не удивило.
— Здравствуй, — сказала Федька. — Садись. Что нового откопал?
И улыбнулась приветственно — она действительно была рада видеть приятеля.
— А что я узнал! Наша чакона придумана была итальянцами! — воскликнул Бориска. — Они это произносят то ли «чьякона», то ли «сьякона», не понять, а происходит от слова, означающего «слепой». Оказалось, движения чаконы выдуманы слепцом!
— Вранье! — отвечала Федька. — На что слепому танцы?
— Так написано!