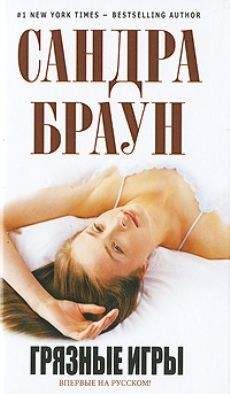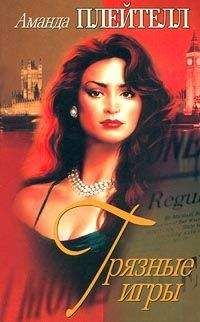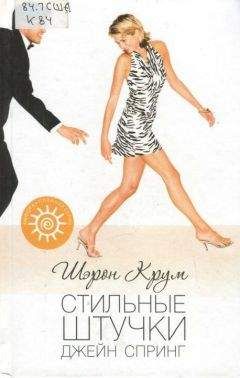Он должен был знать, что долго это не продлится, что он обязательно все испортит. В любом случае все кончено. Ребенка нет, и он уже ничем не может помочь.
Иди! Иди! Поверни эту долбаную ручку!
Грифф уже бежал через гостиную, прежде чем осознал, что повернул на 180 градусов. Открыв дверь из коридора, он услышал ее рыдания. При виде Лауры, свернувшейся внутри розового халата и плачущей в подушку, он ощутил укол в сердце, как будто его пронзили чем-то острым.
Он лег позади нее и тронул за плечо.
— Ш-ш.
— Ты должен идти, — простонала она.
— Нет, я должен быть здесь, с тобой. Я хочу быть с тобой. — Он обнял ее за талию и прижал к себе.
— Нельзя, чтобы Родарт…
— Я не могу тебя оставить. И не оставлю. — Он уткнулся лицом ей в шею: — Прости меня, Лаура. Боже, как я виноват.
— Не говори так, Грифф. И не думай так. Это не твоя вина. И ничья. Просто так природа говорит, что что-то не в порядке. Это только седьмая неделя беременности. Это еще даже не ребенок.
— Для меня ребенок.
Она подняла голову. Взгляд ее залитых слезами глаз встретился с его взглядом. Она повернулась к нему и уткнулась лицом ему в грудь. Он обнял ее, притянул к себе, крепко стиснул и, прижав подбородок к ее голове, стал перебирать и гладить ее волосы.
Лаура плакала, и он не останавливал ее. Это было чисто женское, материнское. Эти слезы были очень важны, искупительные и помогающие остановить кровотечение. Он не мог сказать, откуда ему это известно. Просто он знал это. Может быть, в трудные моменты к человеку приходит понимание.
Наконец она перестала плакать и повернула голову, откинувшись на его руку.
— Спасибо, что вернулся.
— Я не мог уйти.
— Я не хотела, чтобы ты уходил.
— Но ты же отталкивала меня.
— Я боролась с собой, чтобы не умолять тебя остаться.
— Правда?
— Правда.
— Какие красивые, — он заглянул ей в глаза.
— Что?
— Твои глаза. Когда ты плачешь, твои ресницы слипаются в темные шипы. Очень красиво.
Она тихо засмеялась и всхлипнула.
— Да, я теперь прямо сияю. Но все равно я оценила твою лесть.
— Это не лесть. Я не говорю комплименты.
После секундного колебания она опять уткнулась лицом ему в шею.
— А тебе и не нужно было. Правда?
— Мне и не хотелось.
— А с Маршей?
— Ей платили, чтобы она говорила комплименты мне.
— А со мной в этом тоже не было необходимости. Тебе в любом случае платили.
Он пальцем приподнял ее подбородок, заставив посмотреть себе в глаза.
— Думаешь, в тот последний раз я думал о деньгах? Или о том, как сделать ребенка? Нет. Я нарушил все ограничения скорости на дороге только по одной причине — чтобы увидеть тебя. Тот день не имеет отношения ни к чему, только к тебе и мне. Ты это знаешь, Лаура. И я знаю, что ты знаешь.
Она медленно кивнула.
— Вот и хорошо, — сказал он, и они осторожно улыбнулись друг другу.
— Ты не испорчен, — она первой нарушила молчание.
— Мы опять об этом? — засмеялся он.
— Ты когда-нибудь искал своих родителей? Что с ними случилось после того, как они тебя бросили? Ты знаешь? — спросила Лаура. Но он так долго молчал, что она сказала: — Прости, что спросила. Ты не обязан говорить об этом.
— Нет, все нормально. Просто неприятно.
Но она продолжала вопросительно смотреть на него.
Он подумал, что она имеет право знать о нем все.
— Отец умер от алкоголизма, когда ему еще не исполнилось пятидесяти. Мать я нашел в Омахе. Перед тем, как меня отправили в Биг-Спринг отбывать наказание, я набрался храбрости и позвонил ей. Она сняла трубку. Я слышал ее голос первый раз за… пятнадцать лет. Она еще раз сказала «алло». Нетерпеливо, как все мы, когда нам звонят и молчат, а мы слышим, как дышат в трубку. Я сказал: «Привет, мам. Это Грифф». И как только я это произнес, она повесила трубку.
Он пытался окружить это воспоминание твердой, нечувствительной оболочкой, но боль от того, что мать оттолкнула его, все еще была острой.
— Забавно. Когда я играл в футбол, то часто задавал себе вопрос, знает ли она о том, что я стал знаменитым. Может, она видела меня по телевизору или заметила мою фотографию в рекламе или в журнале. Я представлял, как она смотрит игры и говорит друзьям: «Это мой сын. Тот куортербек — мой мальчик». После того звонка у меня не осталось никаких вопросов.
— Твой звонок застал ее врасплох. Может, ей нужно было время, чтобы…
— Я думал точно так же. Наверное, это был мазохизм. Я помнил номер телефона. Пять лет. Несколько недель назад я позвонил. Трубку снял тот парень, и, когда я спросил про нее, он ответил, что она умерла два года назад. У нее были серьезные проблемы с легкими, сказал он. Умирала медленно. Но даже зная, что умирает, она не попыталась связаться со мной. А правда в том, что ей не было до меня дела. Никогда.
— Мне очень жаль, Грифф.
— Ерунда, — он пожал плечами.
— Совсем не ерунда. Я знаю, как это больно. Моя мать тоже бросила меня. — Лаура рассказала ему об отце. — Он был настоящий герой, как в кино. Его смерть подкосила и маму, и меня, но я в конце концов справилась. Она нет. Ее депрессия превратилась в настоящую болезнь, до такой степени, что она уже не вставала с постели. Никакие мои слова или действия не помогали. Она не хотела выздоравливать. И однажды она избавила себя от страданий. Воспользовалась одним из пистолетов отца. Я нашла ее.
— Господи, — он крепче прижал ее к себе и поцеловал в макушку.
— Очень долго я считала, что бросила ее. Но теперь я понимаю, что это она бросила меня. Этот ребенок был таким маленьким, ему было всего несколько недель, но я все равно чувствовала потребность защищать его. Мне хотелось оградить его от боли, душевной и физической. Я не понимаю, как могут родители, отец или мать, отбросить инстинктивную потребность кормить и защищать своего ребенка.
Грифф сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Он не знал ответа. Он задавал себе этот вопрос каждый день с тех пор, как себя помнил.
— Я должен был откровенно рассказать вам о своих родителях. Но я боялся, что, если сделаю это, вы решите, что у меня дурная наследственность, и найдете другого суррогатного отца.
— Признаюсь, поначалу я была о тебе невысокого мнения.
— Расскажи, — попросил он, пряча улыбку.
— Мое мнение изменилось после того, как ты принес смазку.
— Шутишь.
— Нет.
— Я не хотел снова причинить тебе боль.
— Да, и очень расстроился, когда обнаружил, что я ею не воспользовалась.
— Ага, но по-настоящему меня разозлило другое — что ты думала, что мне все равно, больно тебе или нет.