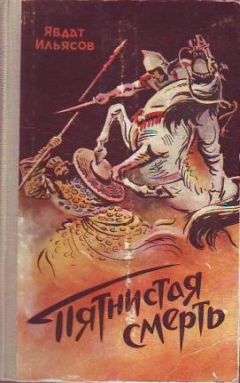Чем ясней высказывала свою мысль Томруз, тем сумрачней становился Дато. Но Томруз не боялась. Горячие волны несокрушимой силы, незримо исходившие от окружающих, окутывали, прикрывали женщину, как самый надежный панцирь. Согревали ей кровь. Сообщали словам мощь и жгучесть.
— Пока жизнь была проще и людей в племенах было меньше, на белой кошме мог сидеть любой человек. Мудрый или недалекий, здоровый или больной, смелый или трусливый — все равно! Лишь бы он был самым старшим среди стариков. Но теперь — иное время. Народ расплодился. В пустыне тесно, не хватает пастбищ. Сократилось поголовье скота. Усилились соседи на западе. Прибавилось тревог, забот и опасностей. Я не говорю: вождем непременно должен быть юнец. Нет! Я говорю: пора выбирать вождя не по возрасту, а по уму, по умению. Пусть он будет стар, но не ветх, пусть будет молод, но не глуп. Чтоб думал не о своих бессчетных немощах или юношеских забавах, а без устали, не жалея сил, заботился о нуждах людей. Изберем вождем человека доброго, но, когда нужно, и строгого. Человека скромного, но, когда нужно и твердого. Человека зоркого, сильного и стойкого! Такой человек есть. Я кричу за Хугаву!
Возмущенно загалдел, замахал руками Дато. Но ропот его утонул в реве бесчисленных глоток, как тонет свист испуганного суслика в басовитом рокоте внезапно грянувшего урагана.
— Хугава!
— Где Хугава?
— Пусть он покажется!
Томруз поклонилась народу и спустилась с холма.
К священному костру поднялся Хугава. Собаки завизжали от радости, запрыгали, гремя бронзовыми цепями.
От Хугавы знакомо и вкусно пахло кизячным дымом, овчиной, овечьим сыром, сыромятной кожей, полусырой, зажаренной на углях, кониной, конским потом, попонами. Милый собачьему сердцу, привычный дух.
Смущенный пастух неловко потоптался на месте и досадливо махнул рукой.
— Ты что, тетушка Томруз! Смеешься, что ли, над Хугавой? Посмотрите на меня, люди. Ну, какой я для вас главный вождь? С табуном бы управиться — и то хорошо. Нет, не смогу я быть вождем, не сумею. Лет через десять, если дозволит небожитель, может, и подойду. А сейчас…
Пастух разыскал глазами Спаргапу, ерзавшего на траве, будто он сидел на гнезде, набитом скорпионами. Разыскал — и лукаво улыбнулся своему тайному замыслу.
— Отец Дато сказал: избрать самого умного, опытного, достойного из нас. Я знаю такого! Это Спаргапа, сын покойного старейшины…
И Хугава указал рукой на сразу же притихшего юнца.
По тысячам лиц, словно тень откуда-то набежавшего облака, скользнуло глубокое недоумение. Тишина вокруг холма выражала немой вопрос. Затем послышался чей-то удивленный возглас:
— Ты шутишь, Хугава?
Смех. Подхваченный десяткам и сотнями мужчин и женщин, он перерос в добродушный, беззлобный хохот. Никто не хотел обидеть Спаргапу. Но такой уж нелепой показалась кочевникам мысль, что десятками тысяч людей управлял бы мальчишка шестнадцати лет.
Спаргапа — юнец веселый, приветливый, но все же лишь юнец, который не то что наставлять сородичей — сам нуждается в наставлениях, как ребенок, едва научившийся ходить.
…Он вскочил, метнул, как дротик, яростный взгляд в Хугаву, сверкнул глазами, как ножами, в сторону Райады — все из-за тебя, мышь! — и ринулся прочь от холма, унося на жалко ссутулившейся спине тягостный груз позора.
К огню торопливо взошел Фрада.
Фрада низко поклонился костру, поклонился Хугаве, народу. Улыбнулся псам. Но псы хрипло залаяли, судорожно забились в цепях.
Они разглядели то, чего не заметил никто из людей. У Фрады из-под длинного рваного халата виднелись новые сапоги чужой, не сакской работы. И серебряные подковы на каблуках были чужие, и несло от сапог иноземным духом.
Не удержался человек — пусть украдкой, да натянул дорогое добро. Решил хоть перед собой богатством похвастать.
— Смотрите! — зашумели вокруг. — Смотрите, как злятся собаки. Значит, у Фрады нечисто на душе.
— Ох, саки! — протяжно и звучно произнес Фрада, издевательски-заискивающе оглядывая народ. — И где ваш разум? Кого надо слушать — собаку или человека? Собаку? Тогда зачем же мы, люди, тратим время на пустые разговоры? Пусть высокомудрые псы и выберут для нас вождя по своему усмотрению…
Невысокий и плотный, с чуть раскосыми красивыми глазами, коротким ладным носом и заботливо подрубленной бородой, Фрада стоял у костра, согнувшись и приложив ладони к груди; вид его выражал смирение, зато презрение содержал бегающий взгляд, а из хитрых слов сочился яд.
Гвалт стих. Да. Что ни говори, собака — это только собака, а человек — это человек. Саки уловили в словах старейшины какую-то долю здравого смысла и устыдились недавних выкриков.
И все же… ведь то не просто псы, а псы священные! Станут ли они напрасно кидаться на человека? Почтение к собакам впиталось в кровь. Несмотря на кажущуюся справедливость упрека, высказанного Фрадой, поведение собак настораживало людей, внушало им недоверчивость.
Хмурые, недоброжелательные, пастухи приготовили щиты своих душ, чтоб отбить все словесные стрелы которые собирался пустить в них красноречивый Фрада.
— Ох, саки, ох! — воскликнул Фрада еще более звучно, но без всякой натуги, мягко и певуче. — И почему вы ответили глупым смехом на умную речь хугавы?
— И как из такого маленького человека выходит такой большой голос? — поразился грек.
— Осел кричит громче верблюда! — откликнулся с усмешкой один из хаумаварка.
Фрада продолжал:
— Прав Хугава! Спаргапу надо избрать. У персов, наших соседей, власть переходит от отца к сыну. Чем плох этот обычай? Если белый войлок вождя будет передаваться по наследству, он не достанется случайному человеку, в руки всяких… Кхм! Спаргапа — сын верховного правителя, и место верховного правителя принадлежит ему. Молод? Пусть. А мы-то на что — мы, старейшины семейств, колен, родов, братств и племен? Будем помогать юному предводителю, наставлять его в добрых поступках, удерживать от ошибок и заблуждений.
Вчера хитроумный Фрада заявил приспешникам:
— Белый отец, — ох, да не будет мне худо за дерзость! — по уму не очень отличался от барана. Стоять во главе союза племен и идти на поводу у неумытых табунщиков!.. Тьфу. Заполучить бы власть — я живо навел бы в пустыне порядок. Всех бы поставил на место! Хватит нам, белокостным, есть из одного котла с черноухими. Почему я должен тратить свой острый разум, нюх свой, свою расторопность на благо тупых двуногих скотов? Не умеют жить — пусть пропадут, бес бы их забрал. Мы должны заботиться о самих себе. Вот рука. Куда загибаются пальцы? Внутрь, а не наружу. Ясно? Пора, как говорится, взнуздать коней. Посадим Спаргапу на белый войлок, я выдам за него райаду — и мы с вами будем вертеть этим безрогим теленком, как заблагорассудится.
— О-ох, саки! — затянул Фрада. — Кричите за Спарга…
Саки носили кафтаны короткие, выше колен. Фрада же, чтоб скрыть сапоги, напялил длинный, до пят, халат. Шальной ветер как раз переменился, дым ударил в полы халата и, не найдя прохода у ног старейшины, ринулся, клубясь, кверху, и плотно забил широко раскрытый рот Фрады.
— Пу! Кха! Пу! Кха!.. — задергался в кашле Фрада, стараясь выговорить до конца «Спаргапу».
Священный костер сделал свое дело! Воющий хохот пронесся над рядами хаумаварка. Но тут кучка верных Фраде старейшин дружно подхватила его коварный призыв:
— Кричите, саки, за Спаргапу!
Гневно загудел народ:
— А-а-а, умники!
— Персидских порядков захотелось?
— Царя из Спаргапы намерены сделать?
— И посадить сакам на шею?
— Не туда загибаешь лук, друг Фрада!
— Не на того скакуна уселся!
— Не на ту луговину попал!
— Кха, саки, кха! — завопил Фрада. — Что вы, саки? Я ведь о вашем же благе забочусь! Не хотите — как хотите. По мне, хоть козла вожаком изберите, хоть корову царицей назначьте. Не все ли равно? Фрада и за коровой не сгинет.
…За каждым старейшиной — целый род. И нравится роду или не нравится, он обязан поддерживать своего старейшину. Речь Фрады всколыхнула собрание. Речь Фрады поколебала твердость и прямоту суждений. Речь Фрады вызвала разброд в мыслях и высказываниях.
Чтоб расколоть прочный ствол вяза, древодел вбивает бронзовый клин.
Волк, стремясь разъединить табун и прижать молодняк к чангале, пробегает, оскалив зубы, между косяками.
Фрада вколотил клин острой речи в сознание людей и разделил толпу на несколько частей, не согласных одна с другой.
Саки спорили, переругивались.
Неизвестно, чем бы кончился день, если б к священному костру не приковылял старый пастух с растрепанной бородой, в драных штанах, седой.
Казалось, одно из неказистых, вкривь и вкось перекрученных деревьев, растущих в песках и не дающих тени, вдруг ожило, зашевелилось и, неуклюже ступая, притащилось на совет. Так он был сух, сутул, морщинист и жилист.