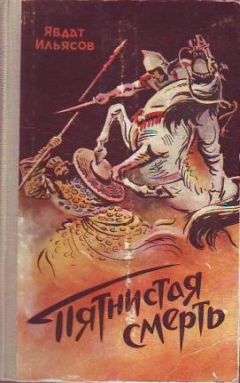Чтоб расколоть прочный ствол вяза, древодел вбивает бронзовый клин.
Волк, стремясь разъединить табун и прижать молодняк к чангале, пробегает, оскалив зубы, между косяками.
Фрада вколотил клин острой речи в сознание людей и разделил толпу на несколько частей, не согласных одна с другой.
Саки спорили, переругивались.
Неизвестно, чем бы кончился день, если б к священному костру не приковылял старый пастух с растрепанной бородой, в драных штанах, седой.
Казалось, одно из неказистых, вкривь и вкось перекрученных деревьев, растущих в песках и не дающих тени, вдруг ожило, зашевелилось и, неуклюже ступая, притащилось на совет. Так он был сух, сутул, морщинист и жилист.
Кожа старика, впитавшая жар палящих солнечных лучей, ледяной холод вьюг, пыль, соль, едкий дым степных пожарищ, отливала дикой глянцевитой теменью, словно слой пустынного загара на древнем камне.
Слезились, подслеповато щурились глаза, обожженные пламенем дневного светила, изъеденные песком, на лету хрустящим в пору ураганов и бурь.
Со лба струился, разбавленный салом и грязью, обильный пот.
Косолапо заносилась носком за носок пара ветхих сапог; она еле держалась на ступнях ног, выгнутых округлыми боками мохнатых коняг, на которых сак, сколько помнил себя, передвигался, ел, пил, спал, хворал, видел сны, обнимался и дрался.
Никто не знал, как его зовут.
От него густо и остро пахло пустыней. Он вынырнул из самого низа, из толщи толщ медноликой толпы.
Из среды тех, кто незаметно рождается в тряской повозке или в золе у костра и растет на пронизывающем ветру с ягнятами и щенятами.
Кто верит всем и всему и с верблюжьей терпеливостью несет тяжесть жизни, даже не подозревая, что она может быть иной.
Кто безропотно трудится, думает лишь о знакомых вещах: о жене и детях, о песке и лошадях, кто не умеет говорить и смеяться, держится всегда в стороне, стыдится себя, сам не зная — почему, и страсть как не любит выступать на советах.
Но треснет и камень, коль его раскалить.
— Э-э… кхум! — проворчал пастух сипло и хрипло и небрежно отпихнул ногой ластившихся к нему собак. Он откашлялся, отхаркался, высморкался и сплюнул прямо в священный костер. — Вот что, честная мать. Стада… э… э… вытоптали всю окрестность. Травы нет. Пора, честная мать, двинуться вниз по реке, на нетронутые пастбища. Чего же вы расселись? Дела у вас нету, что ли?
Он недоуменно пожал плечами в рубцах заживших и свежих ран.
— У нас в семействе четверо братьев, три сестры. Здравствовал отец слушались отца. Погиб отец — слушались мать, пока и она… Умер Белый отец — осталась жена. — Старик махнул скомканной шапкой в сторону Томруз. — Вот она и умна, и скромна, и добра, и все такое. Пусть, честная мать, и будет нашей матерью. Какого, к бесу, нужно еще вождя?
Пастух заботливо расправил, растянул обеими руками колпак, сунул в него лохматую голову и пошел, не оглядываясь, от костра, исчез так же незаметно, как и появился.
Слова безвестного табунщика — изломанные, точно ветви кустарников на дюнах, меж которых он пас коней — проникли в грубоватые сердца, как шипы этих кустарников проникали, бывало, в его обветренную грудь.
Они причинили сознанию людей, затуманенному лукавой речью Фрады, жгучую боль прояснения.
Они слили вместе струи разнородных мыслей.
Они направили поток несходных мнений по единому руслу.
Томруз?
Однажды в низовьях реки, у Хорезма, саки видели, как вода разрушила царскую плотину. Влага сначала тихо, исподволь, скапливалась у преграды. Но чем выше она поднималась, тем ворчливей становилась река. У плотны закружились водовороты. И вот гигантская жидкая лавина навалилась всей мощью и тяжестью на сооружение, пробила брешь в толще хвороста и глины и с оглушительным ревом опрокинулась на отмели мирно дремавшего старого протока.
Так, после продолжительной, раздумчивой тишины, загрохотал у кургана, множась и ширясь от мгновения к мгновению, громоподобный крик:
— Томрррру-у-уз!!!
— Ох! Где справедливость? Никакого уважения к старшим не осталось в Туране. Пришли времена разброда и беззакония. Так ведь, а, высокомудрый Дато?
— Так, сын мой. Так.
Удивляюсь твоему терпению, отец. Разве лукавица Томруз не силой отняла у тебя белый войлок? А, досточтимый?
— Так, сын мой. Так. Злой женщиной оказалась Томруз.
— А ты молчишь. Ты скромен и благодарен. Наглецы как хотят, так и поносят доброго, безответного Дато. Правду говорят: «Когда змея становится старой, лягушка ездит на ней верхом». Нет, я не молчал бы! Молчать и смотреть, как Томруз возносит Хугаву? Ох! Почему, ты думаешь, она во всю глотку кричала за него на совете? Говорят…
— Неужели?! О бесстыдница! Не успела похоронить мужа… Нет, я этого не позволю! Я им покажу.
Простившись с Дато, Фрада свернул к своим шатрам. Тут он разразился бранью:
— Ох, наши саки, чтоб им сгореть! Такого тупого, упрямого народа на свете не сыщешь. Тьфу! И довелось же несчастному Фраде родиться среди саков поганых! Разве не мог сотворить меня бог где-нибудь в Парсе? Неужели ему было бы так уж трудно создать Фраду где-нибудь в Бабире, а? Не захотел, дурной старик. Поленился. И ты хороша! — накинулся он на дочь. Не сумела покруче окрутить своего недоумка. Слюнтяй проклятый! Больше и на полет стрелы не подпускай его к себе.
Понимал Фрада — не при чем здесь Райада: мог ли Спаргапа одолеть толпу? Но — надо же сорвать на ком-нибудь злость? Райада понурилась. Фрада всполошился, замахал руками.
— Ох! Не сердись, дочь. — Он гладил ей волосы и глотал слезы. — Не обижайся на отца. Ради кого хлопочет отец? Ради Райады. Мы с тобой — одни на земле. Озлобишься! Была бы мать жива… Иди переоденься. Отдыхай. А я на свирели поиграю, хорошо? Тяжко на душе.
Девушка ушла за войлочный полог, разделяющий шатер надвое, сняла бусы, браслет, платье, бережно уложила их в окованный медью сундук. Села, опустила голову на голые колени.
Первые звуки свирели напоминали чуть слышный лихорадочный шепот.
По животу Райады прошла дрожь. Она стиснула зубы и колени и медленно передернулась на ковре. Где ты, Спаргапа? Где ты? Вождь или не вождь — все равно ты нужен Райаде…
Пела свирель. Фрада плавно отрывал от клапанов пальцы и свирель роняла россыпь приглушенно-звенящих капель.
Это звездная ночь.
Это с неизъяснимой задушевностью журчала и булькала в ручье вода.
Это по берегу ручья, судорожно толкая и раскачивая осоку, тягучими порывами проносился теплый ветер.
Это с нестерпимой откровенностью звучал вдалеке зов молодого скакуна.
Райада задыхалась. Где ты, Спаргапа? Она упала, скорчилась на полу и забилась в сладостно-горьком плаче.
…Она давно порывалась уйти к Спаргапе без отцовского согласия — по сакским законам девушка сама себе хозяйка. Порывалась, но не уходила.
По вечерам Фрада рассказывал дочери о далеких городах:
— Подобно горе, возвышается Бабира, чудо света, над рекой Пуратту, и громада ступенчатых кирпичных башен, с которых звездочеты наблюдают за небесными светилами, ясно отражается в зеркальной воде канала Арахту. По каналу скользят круглые лодки из обожженной глины. От огромного царского дворца к таинственному храму Эсагилы ведет Улица процессий с изображениями львов, быков и других священных животных на стенах. Весною, на новогоднем празднике Загмук, жители города совершают на этой улице под чтение поэмы Семи таблиц обряды в честь бога Мардука.
Райаде грезились соловьи в висячих садах западных стран, статуи богов, похожих на прекрасных мужчин, и мужчины, подобные богам, снились бани, решетки на окнах, базары, бассейны, наряды, купцы, розы, павлины, гранаты, жемчуг и золото.
Туловища пленных на кольях, рабы в цепях, толпы гниющих заживо бродяг-прокаженных ей не мерещились — о них не рассказывал Фрада.
Заслушавшись отца, Райада с головой погружалась в «зеркальную воду канала Арахту» и — забывала о Спаргапе.
За пологом раздался резкий и холодный свист.
Будто ледяной ветер промчался над пустыней, шурша опавшей и смерзшейся листвой прибрежных тополей. Это Фрада изливал тоску в надрывистых переливах свирели.
Райада с трудом, как после припадка падучей, подняла растрепанную голову и осмотрелась вокруг мутными потухшими глазами. Она устыдилась своей наготы и поспешно оделась.
Спаргапа?
Девушка скривилась от отвращения. Кто такой Спаргапа? Пастух, серый сак. Вот если б он сделался царем Турана и выстроил над Аранхой ступенчатый дворец… Но разве способен Спаргапа на что-нибудь путное? И вправду он слюнтяй. Отец прав. Конечно, прав отец.
Ведь он — умный.
К вечеру погода испортилась.
Северный ветер с шумом раскачивал тростник, деревья и кустарники чангалы, со свистом проносился меж дюн, трепал полотнища намокших палаток.