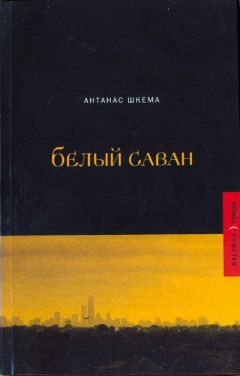У самого его носа находился полуботинок Симутиса. От него несло ваксой, и этот резкий запах, пожалуй, перекрывал вонь испражнений Гаршвы. Гаршва вскинул глаза, по-детски улыбнулся и, глядя прямо в выдвинутый вперед подбородок Симутиса, произнес:
— Не хочу.
Симутис обрушил ему на макушку удар пресс-папье.
* * *
Антанас Гаршва пришел в себя на веранде. Он лежал на скамейке, перед ним стояли Симутис и мужчина в белом халате.
— Очнулся? — спросил Симутис.
Гаршва согласно моргнул.
— Добро. Я тебя пожалел. Слышишь, что говорю?
— Слышу. Пожалел.
— Отлично. Теперь слушай. Ты шел по улице Первого мая. Хотел перейти на другую сторону. Больше ты ничего не помнишь. Повтори.
— Я шел по улице Первого мая. Хотел перейти на другую сторону. Больше ничего не помню.
— Правильно. Тебя задел автобус. Ясно?
— Ясно. Задел автобус.
— Добро. Выздоровеешь, опять будешь писать.
— Хорошо. Буду писать.
— Ты мне нравишься. Я погорячился. Однако… тебе же на пользу, думаю. Уверен, станешь нашим. Поправляйся. Пиши.
Симутис и мужчина в белом халате удалились. За забором загудела машина. Гаршва потрогал голову. Она была забинтована.
* * *
Антанас Гаршва выздоровел. На макушке остался волнистый шрам. Он засел за длинную статью «Гуманизм в советской литературе», но так и не закончил. Литву заняли немцы. Около двух лет Гаршва работал в книжном издательстве. Вычитывал корректуру и ничего не писал.
Сначала умер отец. Он часами ковырял в носу и молчал, словно набрав в рот воды, затем начинал стонать. Его отвезли в больницу. Отец умер от рака мочевого пузыря, но прежде долго мучился, потому что сердце было крепкое. Землемер с женой съехали с квартиры. Антанас Гаршва остался один.
Покой постепенно обволакивал его. Он потерял счет дням и часам. Засыпал прямо у стола. Не отвечал на вопросы своих коллег писателей. И однажды не пришел в издательство.
Коллеги привезли к нему врача. Врач определил: Гаршва не опасен, его не надо класть в больницу. Иногда к нему из города приезжал врач, иногда его навещали писатели с тощими узелками, в которых приносили еду, они же снабжали его деньгами, но купить на них что-нибудь было практически невозможно. Гаршва снова начал говорить. Коротко и очень сжато. Врач и его приятели из издательства решили: Гаршва выздоровеет.
Стояла ранняя осень, и он слонялся по саду. Часто срывал листья вишни и подолгу их разглядывал. Лист — это своеобразная карта, на которой он искал утраченные пространства.
Прожилки на вишневом листе — точь-в-точь как на носу римского сенатора, и вообще это — каменная стена, надежная, крепкая. Вокруг трава. Цезарь стоял на коленях и писал на дощечке. Gallia omnis est divisa in partes tres[44]. Варвары увенчали свои головы венками. Зелеными. Был праздник. Где? Возле моря. Lole? Lepo. Eglelo? Ты прав, древний балт. Смотри же часами на волны Балтии. Смотри на вишневый лист. И поменьше переживай. «Широко раскачиваясь на темных вечерних волнах…» — нет, это не по мне. Кривые сосенки у моря. Смола стекает по стволу, падает на песок, и ее подхватывают волны. Драгоценный камень в венецианском плетении. Римский сенатор держит на ладони кусок янтаря. «Он красивее золота», — говорит сенатор, потому что сундуки его полны сестерций, а янтарь у него один. Augo? Ridij. Skambino? Palo. Древний балт, тот, что с музыкой в ладу, покажи мне, балт, дерево, которому ты молился. Разве оно приказывает? Нет. Значит, оно несет покой? Да. Погляди на дым, который поднимается в небо, на полевицу, на летящую птицу. На вишневый лист. Это тебе по силам.
У Гаршвы постоянно случалось расстройство желудка. Он то и дело бегал в деревянную будку, в двери которой отец вырезал дырку — кривоватое сердце. Гаршва торчал в уборной и сквозь эту дырку в виде сердца видел клочок неба.
«Охлади мою грудь своей хладной волной», — декламировал он. И думал о том, что надо бы дописать стихотворение, которое он разорвал когда-то и выбросил клочки в Неман. Но у него не получалось. Возникали просто отдельные слова. Lalo, балт, римский нос, skambino, небо, янтарь. Через месяц врач вылечил Гаршву от поноса.
* * *
Женя явилась к нему под вечер, чистая, намытая, не слишком постаревшая, как это бывает у очень мелких женщин. Гаршва сидел на веранде. На скамейке лежал пучок веток акации. Антанас держал точно такую же ветку, обрывал листочки, словно гадал «любит — не любит», и бросал наземь.
— Здравствуй, котик, — проговорила Женя. — Слышала, приболел. Один твой друг сообщил мне.
Гаршва хмыкнул и молча продолжал обрывать листочки. Женя поставила на стол чемодан.
— Привезла, вон, масла, сала, яиц. Я тебя не забыла, котик.
— Рад за тебя, — откликнулся Гаршва.
— Красиво тут. Можно я осмотрю комнаты?
— Ступай, — разрешил Гаршва.
Спустя минуту Женя снова появилась на веранде.
— Неплохо. Не мешает убраться.
— Коли не лень, пожалуйста, — согласился Гаршва, обрывая листочки у последней ветки. Женя ласково провела пальцами по его шее.
— Могу я у тебя поселиться? Ты ведь один?
— Один. Только продуктов у меня маловато.
— Не беспокойся. Мы с тобой раздобудем еду.
— Мы с тобой раздобудем.
— Думаю, это место подойдет, — проговорила она как бы невзначай, про себя.
— О да, место, конечно, подойдет, — согласился с нею Гаршва.
— Ты уже догадался? — удивилась Женя.
— О чем?
— Ну, что я задумала?
— Полагаю, что-нибудь стоящее?
Женя внимательно оглядела Гаршву.
— Скажи «раз».
— Раз.
— Два.
— Два.
— А сколько будет дважды два?
— Четыре?
— А двенадцать плюс пятнадцать?
— Двадцать семь. Ты, что, арифметике учишься?
— Вроде ты в порядке, — констатировала Женя. Вдруг она наклонилась к нему и прошептала:
— Скажи. Я — Антанас Гаршва.
— Я — Антанас Гаршва. Был и буду. Во веки веков, аминь, — прошептал Гаршва.
— Ну, ты почти в порядке. Ладно, пошла жарить яичницу.
В ту ночь Гаршва вспомнил давно забытые вещи. Он переспал с Женей и за завтраком умял яичницу из четырех яиц с салом.
Женя завела с ним обстоятельный разговор на второй день своего пребывания. Был вечер, и желтая круглая луна медленно проплывала над Артиллерийским парком.
Этой теплой осенью сильно пахли акации. Поскрипывала рассохшаяся скамейка на веранде. На столе стояло масло, лежали ломти хлеба. Женя поднялась и стала убирать со стола. И когда все сложила на деревянный поднос, попросила:
— Включи свет.
Гаршва нажал на кнопку. Женя тщательно протерла столешницу.
— С завтрашнего дня займусь бизнесом, — объявила она вдруг.
— Хочешь открыть магазинчик? Неприбыльно все это. Товаров сейчас нет, да и покупатели не потащатся в такую даль.
Женя сердито сверкнула глазами.
— Ты что, дурак или просто придуриваешься?
Гаршва отвернулся от нее. Сквозь стекла веранды он наблюдал за луной — полнолуние всегда притягивает.
— Послушай, котик. Мой бизнес все тот же.
— О, — произнес Гаршва, не отрывая взгляда от луны. Она как раз уселась на трубу казармы рядом с гауптвахтой и очень напоминала человечка, которых рисуют дети.
— Понимаешь, хочу здесь заняться своим бизнесом. Мы бы с тобой неплохо заработали.
— А сколько будешь платить за квартиру?
— По крайней мере, ты будешь сыт, я тебя одену, станешь спать со мной бесплатно.
— Божественная перспектива.
— Согласен?
— А на какую клиентуру ты рассчитываешь?
— На немцев. Да ты не бойся. Простым солдатам я не даю. У меня теперь высокая марка.
Гаршва рассмеялся.
— Мой знакомый пекарь — директор табачной фабрики. Кордебалет занимается распределением квартир и ордеров на материалы. Кларнетист из Бремена дирижирует Генделем. Бременский музыкант. Мне рассказывали: один хозяин выменял на муку пианино и день-деньской наяривает одним пальцем польку. Русские пленные убирают его поля. Такую зарисовку я обнаружил в одном еженедельнике. Несколько десятков раз там повторялись слова «кто-то» и «почему-то». А какого ранга офицерам ты даешь?
— А ты и в самом деле глуп, — с грустью заметила Женя.
— Уходи, — спокойно сказал Гаршва.
— Слопал мое сало и яйца, а теперь — уходи! — огрызнулась она.
— В комнате у меня лежит позолоченный портсигар. Забирай его и уходи, — все тем же мирным тоном проговорил Гаршва.
Луна соскочила с трубы. Небесный Пикассо расколол наивную гармонию. Сырость проникала в помещение через открытое окно. Гаршва затворил его. Он хотел еще раз повторить «уходи», но охвативший его покой оказался таким полным, что он промолчал и широко улыбнулся, совсем как эта ребячливая луна над Артиллерийским парком.
— Я напишу хорошее стихотворение, — мягко сказал он. — Кажется, начинаю постигать трансцендентность. Мгла. Туман, плывущий со стороны болот. Туман старинных песен. Туман у меня в голове. Форменный туман. Из туманности рождается слово, это уже фонетический туман… а как ты думаешь, Женя? Я использую болота, использую распятие, использую lo eglelo, использую… Что бы мне еще использовать? А? Женя?