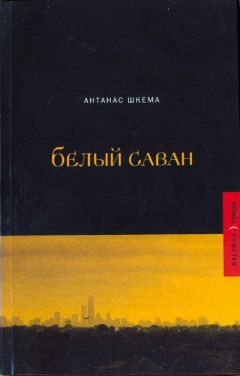— Глупый дурень, — прошипела она.
— Что бы мне еще использовать, что бы ухватить такое? А? Женя?
— Ухвати себя за одно место… — она уже закончила уборку и ушла в комнаты. Гаршва побрел в поле. Он забыл про луну, которая скользнула за крышу его дома. Труба казармы, что рядом с гауптвахтой, торчала теперь так обыденно. Гаршва сломал ветку акации.
Женя осталась. На веранде она установила железную печурку и завесила окна солдатскими одеялами. В доме у Гаршвы поселились еще две девушки: светловолосые, веселые толстушки. Бордель содержался образцово. Каждый вечер звучали песни подвыпивших гостей. Немцы с удовольствием наезжали сюда, в предместье. Коллег Гаршвы вышвырнули вон, когда они попытались освободить Антанаса из этого плена. Женя водила своих клиентов на веранду и там на ломаном немецком объясняла чужеземным офицерам:
— Это известный литовский поэт. Большевики его зверски пытали. Били молотком по голове до тех пор, пока он не сошел с ума. Но он совсем не опасен. И даже пишет. Он уважает немецкую армию. Потому что она принесла ему освобождение.
Клиенты разглядывали улыбающегося Гаршву и угощали его коньяком. Гаршва обычно принимал подношения и выпивал коньяк со словами: «Ich danke ihnen recht schon»[45], затем пожимал всем руку. После чего объяснял, что Женя вместе с доблестной германской армией спасла его от нищеты и он необычайно счастлив, поскольку может теперь размышлять о трансцендентности. О, он напишет достойную книгу. В нее войдет цикл стихов посвященных непобедимой немецкой армии и ее гениальному вождю. Он будет следовать Фридриху Ницше в постижении мистики.
Клиенты приходили к единодушному мнению, что Гаршва — безобидный безумец и по большому счету не лишен разума, поэтому они платили Жене больше, чем следовало, и даже привозили с собой импозантные свертки с едой. «Мы не Иваны, мы — культурная нация», — говорили они.
Бордель закрыли совершенно неожиданно. Одна из девушек украла у фельдфебеля золотые часы. Женю вместе с девушками отправили в тюрьму, а самого Гаршву коллеги отвезли в больницу.
* * *
Гаршва отчетливо вспомнил то ясное зимнее утро, когда он наконец пришел в полное сознание. Он проснулся и посмотрел на пол. На полу было полным-полно зеленых листьев. Гаршва взглянул в окно. На крышах лежали толстые пласты снега. За ними проступала белая, заснеженная Каунасская Кафедра. Гаршва сразу сообразил, что он находился в больничной палате. Она была вытянутая, тесная, с коричневыми стенами. Железная кровать, столик, окно, на окне — решетка. Гаршва сбросил одеяло и сел в кровати. Огладил свою полосатую пижаму. После чего поднял с пола зеленый листочек. Он был бумажный. На столике лежала проволока, обернутая зеленой бумагой, с прикрученными листочками. Имитация веток дерева.
Гаршва нащупал звонок и нажал на кнопку. В комнату вошла сестра милосердия, высокая, старая женщина с монашеским лицом.
— Доброе утро, — проговорил Гаршва.
— Доброе утро, господин Гаршва.
Антанас все еще вертел в руках бумажный листок.
— Что это означает?
Сестра изучающе на него посмотрела.
— Ваше любимое занятие.
— Я обрывал листочки с этих проволочек?
— Чаще всего. Иногда вы писали.
— Могу взглянуть?
Сестра выдвинула ящик стола и достала оттуда несколько мелко исписанных листов бумаги. Гаршва взял их. Он читал, а сестра стояла и смотрела на него.
Lole palo колотили гравий
Се Сенаторская доля
Нет? У листа свой цвет.
Нет? Ошибаетесь, мадам, —
прочитал он вслух.
— А я долго… долго был таким?
— Довольно долго. Несколько месяцев.
— Могу я видеть доктора?
— Сейчас.
Сестра ушла. Гаршва встал. В выдвинутом ящике блеснуло карманное зеркальце. Гаршва поглядел в него.
Волосы острижены. От самой макушки вниз сбегал волнистый шрам. Гаршва видел собственное серое лицо, многодневную щетину, незнакомые складки возле губ, обвислый подбородок. В палату вошел врач. С округлым, ангельским личиком, с гладко зачесанными волосами, в опрятном, чистом халате.
— Как самочувствие, коллега?
— Я не доктор, — проговорил Гаршва и спрятал зеркальце и исписанные листы в ящик стола.
— Зато я поэт. А вдохновляете меня именно вы. Декламировали здесь народные песни. «Я возвращаюсь в усадьбу и встречаю матушку, в руках у нее зажженные свечки», — с выражением произнес врач, точь-в-точь темпераментный участковый пристав, играющий в драме «Сын убийцы». — Как вы все-таки себя чувствуете? — переспросил он, заметно посерьезнев.
Гаршва опять огладил свою пижаму.
— Итак, веранда, да, веранда летнего домика, полнолуние, присутствует девушка, кроме нее — немецкий солдат с бутылкой и… мне кажется, я веду речь о Ницше. — Гаршва вдруг расхохотался. И затем виновато проговорил: «О, простите, доктор. Замедленная реакция сказывается. А каково ваше самочувствие?»
— Сегодня вы мне очень нравитесь, — весело воскликнул врач. — Кстати, зовите меня доктором Игнасом. Здесь меня все так называют.
Через месяц Гаршву выпустили из больницы. И когда в Литву снова вернулись большевики, он бежал в Германию.
Лифт поднимается, лифт ползет вниз. Не все сохранилось в памяти. Частичная амнезия осталась. И многоголосые хоровые песни, и пение соловья переместились куда-то в подсознание. Растаял весенний снег. Нет больше следов на земле, над которой поднимаются испарения. Зато появилось страстное желание вернуть все назад, вернуть влажное дыхание, соловья, акации, знаки древности. Я уподобился ученому, потерявшему формулы. Писать же популярные брошюры не хотелось. Пришлось начинать сначала. Нужно только дождаться зимы в собственном сознании, дождаться снега.
Хочу, чтобы вернулся тот вечер на веранде в Аукштойи Панямуне. Я нуждаюсь в геометрических удовольствиях. В мистике. В суде.
Мы собираемся в Иосафатовой долине. Я прибываю туда в синем автобусе. Хорошо, что он синий. Это цвет надежды. Водитель не отвечает на мои вопросы, но я не сержусь, не следует отвлекать водителя. Проносящийся мимо пейзаж мне не виден. Стекла в автобусе матовые. И водитель отгорожен от пассажиров черной материей. Наконец мы останавливаемся. Я выхожу. Автобус уезжает.
Иосафатова долина сплошь из цемента. Она обнесена кирпичной стеной. И величиной она с комнату. В стене калитка, она отворяется, и в долине возникают трое судей. Они в черных мантиях, белые жабо еще сильнее оттеняют пергаментные лица. Тот, что стоит посередине, открывает толстую книгу и обращается ко мне.
— Ваша фамилия?
— Антанас Гаршва.
— Профессия?
— Поэт и незадачливый житель Земли.
— Ваше мировоззрение?
— Еще не сформировалось.
— А в какой семье вы родились?
— Формально мои родители верующие, однако…
— Комментарии не требуются, — перебил его судья. — Вы исполняете обряды так, как вас учили?
— Я, возможно, не соблюдаю их столь догматически, тем не менее…
— Комментарии излишни, — снова оборвал его судья.
— Вы исполняете обряды так, как вас учили?
— Вроде нет.
— Очень хорошо. В соответствии с восьмым параграфом вы приговариваетесь к уничтожению. Благодарю вас за ответы.
— А можно узнать содержание восьмого параграфа?
— Это довольно длинный параграф. Коротко звучит так. «Уничтожению подвергается каждый, кто не придерживается обрядов. Например, верующий — культовых, неверующий — атеистических, лгун — лживых, человек — человеческих, трус — трусливых, моралист — нравственных. Все, исполняющие эти законы, переселяются на небеса».
— Я исполнял обряды, касающиеся тех, кто ищет.
Теперь все трое судей громко хохочут. Совсем как оперные певцы.
— Подобная категория в Иосафатовой долине не существует.
— Простите. Еще один вопрос. Почему меня привезли в синем автобусе? Этот цвет вселяет надежду.
Но судьи не торопятся с ответом. Антанас Гаршва уже внизу, дверь лифта открывается, и в дверях — стартер.
— Послушай, Tony, — говорит он сурово — ты что там натворил с шиншиллами?
Чуть поодаль стоит старичок со старушкой. Косоглазый старичок держит в руках деревянную клетку. Одна планка у нее выломана, и в дырке торчит острая мордочка шиншиллы, она жадно обнюхивает пальцы старичка. А самочка преспокойно себе спит, свернувшись комочком. Стоящая рядом старушка смотрит на Гаршву с таким выражением, как будто он попытался отравить ее внуков.
— Вот они утверждают, что ты слишком быстро захлопнул дверь на восемнадцатом этаже, расколол клетку, едва не погубив шиншилл!
— Верно, O’Casey, я сломал клетку, поскольку этот господин вошел в лифт, а потом неожиданно развернулся и пытался вернуться на этаж. С какой целью он это сделал, мне непонятно. Именно в этот момент и захлопнулась дверь. Естественно, клетка пострадала. Думаю, с шиншиллами все в полном порядке. Парень, правда, немного струсил. Зато любимая его спит себе сладко и в ус не дует. Видно, самцы у шиншилл, как и большинство мужчин, нервные.