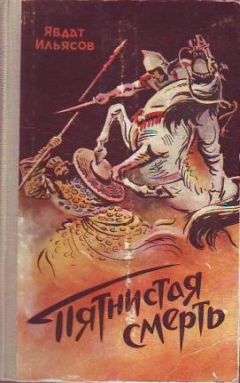— Не согласилась? — Куруш выронил камень, о который точил нож.
Перед ним лежала на лужайке крепко связанная самка онагра, дикая ослица, только что пойманная с помощью аркана.
Животное вскидывало точеную голову, бессильно сучило ногами, пытаясь встать, вырваться из пут. По упругой коже пробегала частая дрожь, на короткой и шелковистой шерсти переливчато играл отблеск солнечных лучей.
Ослица жалобно глядела на людей умными и печальными глазами.
Она была на редкость хороша и также превосходила красотой одомашненную родственницу, как статная лань — вислобрюхую корову.
Третий день охотился царь в предгорьях. Здесь, в лощине, среди желтеющих холмов, у старой чинары, и нашли повелителя послы, вернувшиеся из-за Аранхи.
— Почему… не согласилась? — Лицо Куруша покрылось красными, цвета сырого мяса, неровными пятнами — будто царя больно отхлестали по щекам.
Гау-Барува не раскрыл рта. Советник угрюмо, как хворая сова, сидел на толстом корне чинары.
Ответ держал Утана.
— На третий день, после утренней еды, кочевники взялись нас развлекать. Каждый старался сказать доброе слово, сделать доброе дело для послов Куруша. Видит Гау-Барува: дух у саков — благоприятный для важного разговора. Поднимается. И наступает нечаянно на край белого войлока. Белый войлок у них — знак высшей власти. Я мигаю Гау-Баруве: убери ногу. Не понимает. Саки хмурятся. Так, с ногой на войлоке, и объявил Гау-Барува твое желание.
— «Войлок, войлок»! — вспылил Гау-Барува. — При чем тут белый войлок?
— Из-за него вышла неудача.
— Чушь!
— Дальше? — Царь подобрал с земли точильный камень и так, с ножом в одной руке и с точильным камнем — в другой, продолжал слушать Утану.
— Саки удивились, притихли, будто им принесли худую весть. Долго молчали да переглядывались. Видно не ждали подобного оборота.
«Что скажешь в ответ, мудрая сестра?» — спросил Гау-Барува.
«Что я могу сказать? — сердито молвила Томруз. — Одна плохая хозяйка целых два дня старательно стирала белый войлок, а на третий день, когда войлок сделался почти совсем чистым, она по глупости густо измазала его черной сажей… — И Томруз покосилась на сапог Гау-Барувы. Он заметил свою оплошность, убрал ногу. Но — поздно. — Белый войлок хорошо наладившегося дела, — продолжала Томруз, — вы, персы, по неразумию испортили сажей ненужных речей. Мыслимо ли, чтобы я вышла замуж за Куруша?».
«Почему немыслимо? — возразил Гау-Барува. — Соединитесь — и дружба, которую мы завязали столь удачно, будет крепкой, точно сакская бронза. Нет прочнее уз, чем узы родства».
«Не всегда, — заметила Томруз. — Не всегда узы родства — самые прочные. Но — пусть будет по-вашему. Ради дружбы я готова хоть сейчас породниться с царем царей. Только обязательно ли именно мне и Курушу класть головы на одну подушку? Он стар. Я тоже немолода. Кроме того, я не из тех проворных женщин, которые, едва освободившись от одного мужа, спешат со слюной на губах выскочить за другого. Женщина должна помнить она не только утеха для мужчины, но и мать его детей. Она человек, а не собака, слоняющаяся меж дюн. Я была и остаюсь Белому отцу верной женой, а Спаргапе — заботливой матерью. И останусь до конца дней своих. А с Курушем — с ним мы можем породниться, — усмехнулась эта коварная женщина. — У меня — сын Спаргапа, у него дочь Хутауса. Им более к лицу сватовство и женитьба. Соединим их — вот и свяжут саков и персов узы родства».
— Дальше? — Куруш потрогал большим пальцем лезвие ножа.
Гау-Барува растерялся. Да буду я твоей жертвой, брат Гау-Барува! Не сердись, но поначалу ты растерялся. Зато быстро оправился и ответил ей:
«„Прекрасный павлин“ предназначен в жены своему брату Камбуджи, поэтому твой сын не может на ней жениться».
«Вот как! — невесело улыбнулась Томруз. — Вы, персы, мудрый народ. Но знайте — и другие вас не глупей. „Собакам“ не хуже, чем „ребрам“, известны обычаи Востока. На Востоке законным царем считается либо сын дочери, либо муж дочери предыдущего царя. Не так ли? Потому вы и не хотите отдать Хутаусу, „Прекрасного павлина“, за моего сына — ведь так Спаргапа сделался бы после Куруша повелителем Парсы! О, разве Куруш согласится на это? Боже упаси. Лучше выдать Хутаусу за родного брата, лишь бы Камбуджи досталась царская власть. А вот жениться на „неумытой сакской бабе“ (откуда она узнала?!) Куруш не прочь. Став мужем Томруз, он превратится, по тому же обычаю, в полного хозяина сакской земли, сакских стад. Не так ли, гости досточтимые? Я — женщина. Привыкла возиться с пряжей. Любой узел распутаю, как бы хитро не завязали».
— И Томруз засмеялась, и в медном смехе этой удивительной женщины было не меньше яда, чем в жале гюрзы, — вздохнул Утана.
— Дальше? — с трудом протиснул Куруш сквозь зубы и с пронзительно-скрежещущим, звенящим звуком провел ножом по точильному камню.
— Дальше? Они вернули наши дары, мы вернули их дары. Собрались. Распрощались. Уехали. Что оставалось делать?
— А ты забрал товар?
— Товар — не дар, я получил за него плату.
— Так. Дальше?
— Томруз напоследок сказала: «Если вы, сыны Айраны, и впрямь, без всяких помыслов тайных, хотите жить с нами в мире и добром соседстве, торговать и дружить, то наши сердца всегда открыты для вас. Но если ищете здесь легкую поживу, собираетесь прибрать к рукам страну, как прибрали много других стран — уходите и больше не приходите. Исчезните с глаз! Пусть головы ваши расширятся, пусть спины ваши сузятся. Чтоб не видеть нам встречных следов, чтоб видеть нам цепь следов удаляющихся. Не нужно туранцам ни персидских мужей, ни персидских невест. Мы, саки, сами управимся со своими делами. Так и передайте Курушу. Жених! Мало ему дочерей Иштувегу и сотен наложниц — на мне, бедной степнячке, жениться захотел. Прощайте». Она поехала нас провожать и повторила раз десять, не меньше: «Жалею, что так получилось. Давайте жить в мире».
— Испугалась? Отказала — и испугалась? — злорадно спросил царь.
— Н-нет, государь. Непохоже, чтоб испугалась. Кажется, действительно ей жалко, что связь между нами оборвалась, не успев наладиться.
Царь заметался по лужайке, сверля пятками суховатую землю и резко взвихривая полу широкой одежды на стремительных поворотах.
Тому, кто привык к плавному, как полет стрелы, бегу благородного иноходца, больно трястись на костлявой спине тощего рысака.
Сухая ячменная лепешка до крови раздирает рот, знакомый лишь с мягким пшеничным хлебом.
Человек, который всю жизнь бил других. Сам же не подвергался сечению, в тысячу раз тяжелее, чем битый, переносит внезапно нанесенный удар.
Томруз отказалась выйти замуж — за кого? За Самого Царя Царей.
Воображение ария птицей взметнулось в лазурное, еще не затянутое желтой пылью, небо Ниссайи.
Устремилось через черные пески и утесы к югу.
Порхнуло меж пальм, мерно колыхавшихся у Аравийского моря.
Пересекло голубой узор сплетенных вместе Тиглата и Пуратту [12].
Перескочило через Малую Азию.
Покружило над белыми колоннами приморских греческих храмов, посетило скалистый Кипр, жаркое побережье Палестины и, вмиг облетев половину мира, перенеслось, вновь задев Ниссайю, на северо-восток, к Аранхе.
И здесь упало, с ходу врезавшись в плетеный сакский щит.
Тысячи тысяч спин, согнувшихся над пашней, над гончарными кругами, ткацкими станками, наковальнями, рыбачьими сетями на великом пространстве от дальних до ближних морей, и само это пространство — гористое, выпуклое, изрезанное долинами — представились царю одной огромной, натруженной, худой и жилистой спиной, исполосованной кнутом, покорно сгорбленной под каменными стопами Куруша.
Стоило кому-нибудь набраться храбрости и смелое слово молвить против «мужей арийских», как завоеватели тотчас хватались за оружие.
Поселения мятежников обращались в груды развалин — будто их разрушило землетрясение страшной силы. Улицы превращались в кладбища, жилища — в могилы. Мужчинам, способным держать копье или меч, сносили головы с плеч, женщин, опозорив, уводили в рабство. Умерщвленных стариков повергали в прах, детей, зная наперед, что им не перенести дорожных невзгод, толпами сжигали на кострах.
Там, где лишь вчера возвышался шумный город, сегодня раскидывался тихий пустырь. Меж обломков стен отдыхали в знойный полдень стада. На капителях рухнувших колонн в холодную полночь щелкали иглами дикобразы. В проемах окон, подобных пустому оку черепа, тосклив и уныл, ныл ветер.
Путник, случайно забредший в руины еще недавно многолюдного города, испуганно слушал, как стонет сыч, как верещит зайчиха, которую схватил сарыч, глядел на колючки, на битый кирпич, разводил руками и свистел от изумления.
Такова была персидская власть, и весь мир считался с нею.