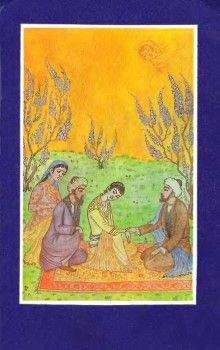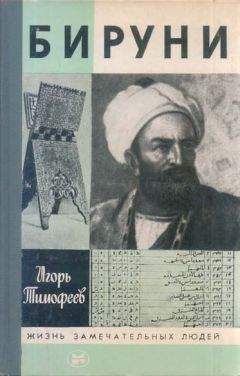— Но как же иначе, благодетель? Так повелел аллах, а у раба его, человека, нет другого пути, как выполнить его волю, — жить достойно и потом уйти из мира сего…
— Волю аллаха? — горько переспросил султан. — Да простит всевышний раба своего грешного, но… Зачем же тогда… радовать, веселить?.. Нет, поэт! Я ждал от тебя другого ответа, а ты… повторил, что твердит как попугай имам Саид!
Унсури снова искательно посмотрел на Абул Хасанака. Но любимый султанский визирь и сам впал в замешательство. Жизнь — это удовольствие, наслаждайся, если можешь и пока можешь. Так он всегда полагал и впервые слышал такие, не по его уму, загадочные вопросы из уст султана. До сего времени все слова и поступки повелителя были ему, Хасанаку, ясны как день: даже мысли, еще не высказанные султаном, он угадывал точно. А вот заболел султан — видно, и впрямь неизлечимо, — и многие поступки и слова его стали вызывать у визиря страх непонимания, и в сердце закрадывалось, непонятно почему, какое-то холодное смятение.
Еще эта охота рискованная, которую он выдумал, — не получилось бы что на свою же голову! Сумеют ли охотники исполнить все так, как задумал Абул Хасанак? А вдруг да произойдет что-нибудь непредвиденно неприятное? Да хоть с той же прирученной газелью главного визиря? Смогут ли охотники выпустить газель с детенышем из засады точно в назначенный миг или, чего доброго, ненароком чем-то выдадут себя? Да и побежит ли газель, увидев султана, прочь, или, прирученная человеком, остановится, бестолковая тварь, застынет на месте как пень, ожидая, что человек подойдет к ней? Вот это будет «охота»!
И чем ближе крепость Гардиз, тем больше теснилось неспокойных мыслей в голове Абул Хасанака.
Между тем повозка в сопровождении конных охотников стала подниматься вверх по склонам, густо заросшим арчой. Все выше и выше двигались охотники. Пройдя медленной рысью арчовую рощу, поднялись к мощным вязам, откуда открылся вид необозримо широкого яркозеленого пространства, уводившего взгляд к серебристым лентам ручья и речек внизу, к скоплениям шаровидных деревьев — гурджумов, а дальше… дальше опять были холмы, перелески, снежные вершины.
Неожиданно раздался глухой, властный голос султана:
— Остановитесь! Где мой карабаир?
Хватаясь за вертикальные брусья, на которых плескались желтые занавески, султан поднялся в повозке во весь рост. Его высокая фигура в чекмене из белой верблюжьей шерсти словно вытянулась усохшим, без листвы, тополем. Глаза заблестели, как прежде, когда он был полон сил и величья.
Главный соколятник, с черной птицей, накрытой колпачком, на плече, подвел к повозке иссиня-черного, как ласточкино крыло, коня — тот весь прямо лоснился, каждая жилочка в нем трепетала. С холки свисала шелковая бахрома, широкая грудь карабаира в золоченых тесемках, удила тоже золоченые, и конь нетерпеливо грыз их и бил копытом по земле.
Султан оперся руками на обе луки крепкого седла, покрытого бесценно дорогим мягким ковриком. Закрыв глаза, он постоял так, что-то шепча, а затем, оттолкнув Абул Хасанака, взявшегося было помочь повелителю, резким движением тела перемахнул с повозки прямо в седло.
— О всемогущий аллах! — воскликнул поэт Унсури, воздев свои женственно белые руки, как для молитвы. О аллах милостивый, никогда не скупился ты проявлять благосклонность к радетелю истинной веры!.. О повелитель! Вы будто юноша. Пусть и ныне исполняются все надежды ваши, пусть будет удачной охота, и да поможет вам дух вашего достопочтенного отца. Аминь!
— Аминь! — прошептал и султан уже с седла, молитвенно сложив руки. Натянул поводья, удерживая коня. Рукавом чекменя вытер нежданно проступившие слезы, легонько стегнул потом плетью своего карабаира — и благородный туркменец нетерпеливо скакнул, высоко подбросив передние ноги, и с места, как птица, полетел.
Иные из охотников-слуг хотели было пуститься за султаном, но услыхали, как крикнул Абул Хасанак: «Не надо! Стойте!» — и сдержали коней.
Султан быстро отдалялся от сопровождения. В белом чекмене, в белом колпаке с черной оторочкой, он был похож на большого белого ворона, который почему-то вцепился намертво в спину карабаира, и чем дальше отдалялся всадник, тем большим становилось сходство…
Абул Хасанак с повозки смотрел вслед, едва дыша.
Вот карабаир миновал один высокий вяз, вот рядом — другой, вот приближается к густому кустарнику. О, появились из кустов две тени, одна побольше, другая поменьше, появились и стали быстро удаляться.
— Газель! — Абул Хасанак чуть не захлебнулся от чувств.
— Слава богу! Газель, и еще с детенышем!
Поэт Унсури сполз с повозки, опустился на колени, поцеловал землю.
— Это — доброе знамение! Слава всевышнему! Мольба нашего благодетеля дошла до аллаха!
Карабаир настиг одну из двух беглянок. «Белый ворон» на полном скаку наклонился с седла, схватил легконогую (видно, молоденькую, — промелькнуло у Абул Хасанака) газель, завалил ее на седло перед собой, но тут же наклонился на другую сторону и опустил животное, притормозив ход карабаира, потом повернул его и не спеша потрусил к своей свите.
Абул Хасанак соскочил с повозки, пустил коня навстречу султану.
«О судьба! Неужели все сбылось, как я задумал? Кажется, даже лучше, чем задумал, и прошло все легче, чем я предполагал! Неужели благодетель султан и после этого будет ставить меня ниже Али Гариба? Нет, пусть отберет у этого хитрого толстяка должность главного визиря, пусть отберет… Есть более достойные на эту должность, есть…»
Султан спокойно подъехал.
Спокойно? Нет. Он был растроган. Слезы лились по вялым, обтянутым желтой кожей щекам и по редкой седой бороде. Султан Махмуд не чувствовал, что плачет. А если и чувствовал, подумал Хасанак, то — дивное диво! — не скрывает слез. И эти слезы еще больше подхлестнули надежды Хасанака, сердце его билось восторженно-гулко.
А поэт Унсури, увидев повелителя правоверных залитого слезами радости, сам зарыдал:
— Слава аллаху! Это добрый знак небес, повелитель! Знамение удачи!
Султан жестом руки, на которую еще была надета петля плетки, повернулся к Хасанаку, остановил его и прочих от восторгов и пожеланий.
— Мой преданный, мой самый близкий… Сейчас же пошлите гонца к Али Гарибу! Надо отметить доброе знамение, которое ниспослал нам милостивый аллах. В ближайшие дни раздайте на «Большом кладбище» милостыню нищим и сиротам. Заколите сорок быков, сорок верблюдов, сорок кобылиц, сорок баранов, наварите плова из сорока батманов[62] риса… А сейчас всем им… — он показал на охотников, не осмелившихся подойти поближе, — всем верным моим слугам наденьте новые чапаны. И — давайте-ка попируем на славу!
«Мой преданный, самый близкий…» Так сказал повелитель? Абул Хасанак почувствовал, как стало ему трудно дышать: он еще ниже склонил голову, боясь выдать себя, свою радость, ожидание дальнейших милостей.
Начали пировать в полдень, когда солнце сравнялось со снежными вершинами гор. Всем охотникам надели чапаны, на поэта Унсури накинули парчовый, а на Абул Хасанака златотканый халат.
Султан возлежал на высоком ложе, устроенном под вязом. На плоском, бледном его лице был чуть заметен румянец. Султан не выпил ничего, ел мало, говорил и того меньше, дав волю веселью идти свободно. Время от времени, закрыв глаза, уходил в себя, и тогда перед его мысленным взором снова представали газель и детеныш, что выскочили из кустов. Он подстегнул коня, пустился на них вскачь: газель-мать, будто и не боясь всадника, завертелась вокруг молоденького своего чада. Серенький, с маленькими ножками и огромными глазами детеныш засеменил довольно быстро и побежал, сначала опередив мать. Взрослая не помчалась от всадника сразу, но когда он приблизился — ее как ветром унесло.
В душе султана, осиянной неведомым чувством милосердия, и в его тощем теле проснулась вдруг необычайная сила. Она гнала его вперед, и он настиг молоденькую газель: будто ловчий сокол, вцепился в легконогое животное и поднял его к себе на седло. И в тот же миг мать, что умчалась так далеко вперед, что, конечно, ее бы он не словил, сразу остановилась, немного постояла, будто раздумывая, и робко двинулась к нему… О благословенная судьба! Все получилось и с ним точно так, как с достопочтенным отцом. Вот оно — доброе знамение.
И султан, волнуясь, опустил на землю дрожмя дрожавшего детеныша. И, как только опустил, тут же в душе вспыхнул этот ясный свет, тут же охватило его какое-то загадочно-светлое, истинно нездешнее настроение. И радость за себя тут была, и благодарность кому-то за что-то хорошее, и уверенность, что с ним будет все хорошо. Боль в правом боку отпустила. Мир открылся в благожелательной красоте своей, а он сам… он словно заново родился. Это широкое зеленое иоле, окруженное горами, показалось просторней, воздух — свежее, запах арчи ароматней, чем раньше. Снежные вершины выросли, выросли до самого неба. И люди султана — один лучше другого, один добрее другого.