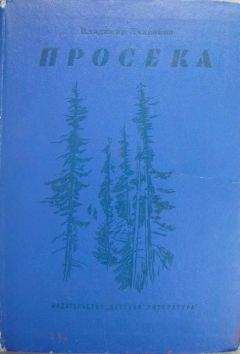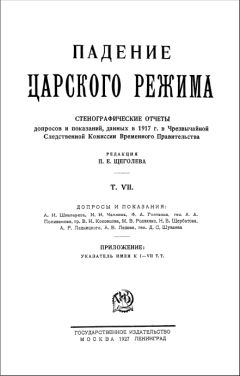— Что ты сейчас читаешь? — спрошу её.
Она смотрит, смотрит на меня.
— Я Лермонтова читаю, — ответит. И кутается в платок, хотя у нас тепло.
— Тебе холодно?
— Нет.
Если на дворе зима, спрошу, каталась ли она на лыжах и куда ездила кататься.
— Каталась. По улице каталась. — И смотрит опять мне в глаза. Может, дома у неё какой-нибудь скандал, думаю я. Рассказываю что-нибудь смешное.
Когда они соберутся вместе, начинают шептаться с видом заговорщиц.
Стою перед раскрытым окном. Девчонки засмеялись. Иду к ним. Дина за столом, листает альбом. Подруги смотрят в него и трясутся от смеха. Небрежно взглянув на них, я копаюсь в книгах. Беру одну и сажусь. Сестра посматривает на меня.
— Боря, ты читать собрался?
— Да.
— Это невозможно! — говорит она. — Почему, когда к тебе приходят твои Лягвы, Витьки, я никогда не мешаю вам?
— А я разве мешаю? — удивлённо говорю я, вскидывая правую бровь.
— Ты нарочно пришёл сюда, чтоб нам помешать. Девочки, пойдёмте танцевать.
И они идут кружиться в столовую.
Я красивый. Это я знаю. Прежде говорили об этом и мама и Таня. Но я не обращал внимания на их слова. И до нынешнего года меня нисколько не трогало, красив я, нет ли. Но вот весной, перед каникулами, произошёл такой случай в школе. Как обычно, на переменке мы носились по коридору. За мной кто-то гонялся. Я влетел в класс. Пробегая вдоль столов, похватал тетради, лежавшие на них, и сунул в ящик какого-то стола.
Когда прозвенел звонок, девчонки раскричались. Больше всех кричала Тамара Лысенко. Есть у нас такая ученица. Гордая сверх меры. Считает себя страшно умной. Не задень её никогда. Но все знают, что она зубрит. Перед началом урока я достал тетради, бросил к ней на стол.
— На-а! — сказал я. — А то жаловаться будешь!
— А вот и буду, — ответила она, — и скажу про всё Вере Владиславовне. Ты думаешь, если красивый, значит, тебе всё можно?
Вошёл учитель. Я сел. До конца занятий девчонок не дразнил, не делал им мелкие пакости, что почему-то приятно. Вечером заглянул в комнату бабушки Вари. У неё всегда тихо. Сама она постоянно роется в своём сундучке. Или пьёт чай. А то сидит на низенькой табуретке, смотрит в стену перед собой. На столе у неё старинное пожелтевшее зеркальце. Я сел к столу, внимательно рассмотрел своё лицо. Мне понравились мои глаза, брови. Тёмный гладкий чубчик. «Так вот почему девчонки редко жалуются на меня учителям», — думал я. Вспомнил, как зимой ударил снежком в лицо Лидочке Сивотиной. Я не хотел попасть в лицо, но снежок угодил в щёку. Он был тугой. Я испугался. Лидочка убежала в класс, чуть не плакала, но не пожаловалась. И Котлярову я однажды толкнул, правда случайно. Она ударилась локтем о печку и плакала. Когда же классная руководительница Вера Владиславовна спросила её:
— Кто тебя обидел, Котлярова?
— Я сама ударилась, — сказала она.
Да, да, так она и сказала! И вообще, на других ребят девчонки часто жалуются, а на меня почти никогда. Так вот почему!
За стенкой слышались голоса Курбанской и Красавиной. Я отправился к ним. О чём-то спрашивал сестру, наблюдая, смотрят ли на меня девчонки. Они поглядывали, как обычно, без всякого особого интереса. «Они старше меня и учатся в десятилетке, — успокоил я себя, — они смотрят на меня как на маленького. Пусть. Я им ещё покажу».
В прихожей я привязал к их пальто хвостики из ниточек и ушёл на улицу…
Среди ребят мне хочется показать, как я силён и ловок. Мы часто боремся, соревнуемся, кто дальше прыгнет, скорее залезет на столб, на дерево. Оказавшись среди девчонок, я строю им всякие пакости. Этой гордячке Лысенко достаётся от меня больше всех. Стоит мне увидеть её, как вспоминаются её слова о моей внешности. Я думаю: «Пожалуется она или нет?» Прячу куда-нибудь её портфель, пенал, учебники. Девчонки стали часто передавать друг другу записочки. Едва примечу, что Лысенко хочет передать кому-то записочку, непременно перехвачу.
— Ты, ты вреднее всех в классе, — выпалила однажды Тамара мне в лицо, пытаясь отнять у меня свою записочку. — Она дрожала от негодования. — Ты гадкий, когда так поступаешь! За что ты меня преследуешь? Если, если…
Тут она не выдержала. Щёки её разом вспухли, покраснели, она бросилась к своему столу и расплакалась. Слёзы её меня удивили, не нашёлся что сказать, убежал из класса. «Почему она на меня так сердится?» — думал я. Неужто в её глазах я действительно гадкий? Но ведь другие девчонки совсем почти не злятся на меня? Они могут и поколотить, но делают это без особого зла. И через минуту они мирно беседуют со мной. На днях Лягва перехватил записочку Лысенко, но она не кричала на него с такой злобой.
Подобные размышления могут занимать меня подолгу. Среди урока либо за обедом вспомню какой-нибудь случай. Задумаюсь.
— Картавин, ты в каких облаках витаешь? — спросит учительница. Я вздрогну. Слушаю объяснение. Случись такое за обедом, сестра усмехнётся, посмотрит на маму, на отца. Положит ложку. Закатив глаза, сидит некоторое время неподвижно, передразнивая меня.
Отец говорит, что это только сейчас позволяют такое за столом. Прежде этого не было. У них в семье росло девять детей. И если кто замешкается, оставался голодным. А то и по лбу ложкой получал…
Теперь нет войны. Смерть никому ниоткуда не грозит. Происшествий особенных в городе не случается. О прошлом я почти не думаю. И отношения между людьми всё больше и больше интересуют меня.
Между членами нашей семьи сложились довольно странные, на мой взгляд, отношения. Сколько я помню, отец всегда был строг ко мне. И в то же время, занятый делами, меня почти не замечал. Если мама ничего плохого не говорила обо мне, он не бранил меня, не брался за ремень. Сейчас он меня замечает. Дина может хоть весь день пропадать у подруг, отец не спросит, где она. Он никогда не заставляет её что-нибудь делать. Ко мне же постоянно придирается. Скажем, учу уроки. Вдруг в голове мелькнёт что-нибудь постороннее. Весёлое. Встану и хожу по комнатам, то хмурясь, то улыбаясь своим мыслям. Придёт отец, пороется в своих бумагах.
— Борька, давай со мной, — скажет он.
— Куда, па?
— Одевайся. В сарае крыша прохудилась. Подправим.
Подправить крышу он может и с Гаврюшей.
— Я уроки учу.
— Не разговаривай. Уроки не учат, шатаясь из угла в угол.
— Да я только встал, — сержусь я.
— Пошли, пошли.
Я одеваюсь, шагаю за ним. Подаю ему на крышу доски, гвозди. А Гаврюша, убрав лошадей, уходит домой.
— И зачем тут нам лошади нужны, — говорю я, — места много занимают, а кроликам моим тесно. Ваши лошади тут стоят — чего ж ты Гаврюшу отпустил?
— Ладно, ладно. Неси-ка вон ту жердину. Я в твои годы с отцом у помещика мельницы ремонтировал. Своим горбом зарабатывал…
И заведёт, заведёт. Опять говорит про свою деревню. О том, как он работал и учился. И всё успевал делать сам, никто его не заставлял. И учился он отлично.
Эти его укоры мне вот как надоели!
— А я что? — кричу. — Ничего не делаю? Скажи? Я всё делаю! И учусь. Ты три класса кончил, да и то не в городе, а в деревне! Да ещё до революции! Ха-ха! Пойди-ка сейчас поучись!
— Неси-ка пилу, дров напилим, — спокойно говорит он, забив последний гвоздь.
— Есть дрова.
— Неси, неси.
— Мне уроки учить надо.
— Я кому сказал?
И когда мы пилим, я уже расстроен, дёргаю пилу, нажимаю сильно, а отец ругается.
Иногда он доводит меня до слёз. Мама утешает меня. Говорит, что обижаться на отца я не должен. У него много работы, он устаёт, и к тому же здоровье его неважно, он и раздражается.
— А ты нигде не натворил чего? — спросит мама — Может, кто-нибудь из учителей пожаловался ему? Он и сердит.
В школе или на улице обязательно чего-нибудь натворишь. Чувство виновности хоть в каком-нибудь маленьком грехе постоянно владеет тобой. На днях я гонял на Зорьке, по степи за кирпичным заводом. Она так разгорячилась, что на улице не смог сдержать её. И чуть было не сбил женщину с вёдрами.
Вспоминаю другие прегрешения. Чувство обиды на отца исчезает…
Вон он разделся, прилёг отдохнуть в спальне. Присаживаюсь к нему на постель. Самое верное средство помириться — порассуждать о хозяйственных делах. Об учёбе он не любит разговаривать. Это я заметил давно. В учебниках, в обычных книгах часто встречаются непонятные слова. К маме можно в любой момент подойти, спросить, что означает это слово. Она либо сразу же отвечает, либо прочитает текст и тогда расскажет. Прежде я и к отцу обращался.
— Мне некогда. Спроси у матери, — отвечал он.
Потом я понял, что он сам не знает. Меня это открытие поразило и обидело: отец — и не знает! И если он ни за что бранил меня, я специально выискивал какое-нибудь непонятное слово. Узнавал его значение. И потом обращался к отцу — знает ли он? Он отмахивался от меня, ссылаясь на занятость. А я торжествовал. Мама заметила это. Объяснила, как это скверно с моей стороны поступать так. Я больше не делаю этого.