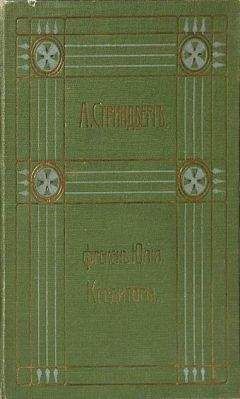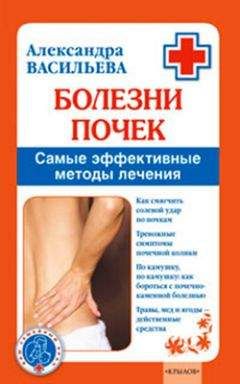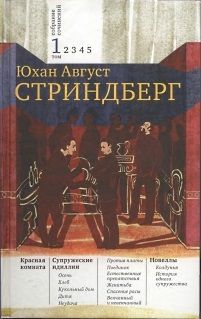— Ты лжешь! Это неправда!
Она расширила ноздри, показала кончики зубов и уколола иглами.
— Поговорим о другом, — сказал он. — Что ты думаешь о Ренгьельме?
— Очень мил! Это красивый малый! Изящный!
— Он совсем влюбился в тебя!
— Что ты болтаешь!
— Но самое плохое это то, что он хочет на тебе жениться.
— Пощади, пожалуйста, с такими глупостями.
— Но, так как ему только двадцать лет, то он хочет ждать, пока будет достоин тебя.
— Вот дурак!
— Под достоинством он подразумевает быть признанным актером. А этого не может быть, пока он не получит роль. Не можешь ли ты достать ее ему?
Агнеса покраснела, откинулась в угол дивана и показала пару изящных ботинок с золотыми кисточками.
— Я? Я сама не получаю ролей. Ты смеешься надо мной?
— Да, конечно!
— Ты чёрт, Густав! Поверь мне!
— Может быть! Может быть, нет! Решить это очень трудно. Но если ты благоразумная девушка…
— Молчи!
Она взяла со стола острый разрезной нож и угрожающе замахнулась им, шутя, но так, что это выглядело серьезно.
— Ты так хороша сегодня, Агнеса! — сказал Фаландер.
— Сегодня? Что значит, сегодня? Разве раньше ты не видел этого?
— О, как же!
— Почему ты вздохнул?
— Это всегда бывает, когда покутишь.
— Можно взглянуть на тебя? У тебя глаза болят?
— Это бессонная ночь, милая!
— Я уйду, тогда ты можешь уснуть.
— Не уходи! Я не могу спать.
— Мне кажется, всё равно, надо уходить. Я, в сущности, только для того и пришла, чтобы сказать это. — Голос её смягчился, и веки медленно опустились, как занавес после сцены смерти.
Фаландер ответил:
— Это хорошо с твой стороны, что ты пришла отказаться.
Она встала и закалывала перед зеркалом шляпу.
— Есть у тебя здесь духи? — спросила она.
— Нет, они у меня в театре.
— Ты должен отвыкнуть от трубки. Дым так пристает к платью.
— Хорошо, я сделаю это.
Она склонилась и застегнула подвязку.
— Прости! — сказала она и бросила просящий взгляд на Фаландера.
— Что именно? — ответил он, как будто ничего не видел.
Так как ответа не последовало, то он собрался с духом, вздохнул глубоко и спросил:
— Куда ты идешь?
— Примерять платье; значит, тебе нечего беспокоиться, — ответила она, совсем непринужденно, как казалось ей.
Но Фаландер услышал по лживому тону, что это заучено, и сказал только:
— Ну, так прощай!
Она подошла к нему, чтобы дать себя поцеловать. Он обнял ее и прижал к груди, как бы желая задушить, потом он поцеловал ее в лоб, подвел к двери, вывел за дверь и коротко сказал:
— Прости!
Однажды, после полудня в августе, Фальк опять сидит в саду, на Моисеевой горе, но теперь одиноко. Так он провел всё лето. И он делает обзор своему опыту за четверть года, с тех пор как он был здесь в последний раз, полный надежд, отваги и сил.
Он чувствует себя старым, усталым, равнодушным; он заглянул в эти дома, там внизу; и каждый раз выглядело иначе, чем он себе представлял. Он огляделся в этом мире и изучил людей в разных обстоятельствах, как может только врач или репортер. Он, Фальк, имел случай изучить человека, как общественное животное; он посещал рейхстаг, заседания церковного совета, общие собрания, собрания с благотворительными целями, празднества, похороны, народные собрания; всюду громкие слова и много слов, слов, никогда не употребляемых в повседневном разговоре, особый вид слов, не выражающих никакой мысли, во всяком случае не ту, которую нужно было бы выразить. Благодаря этому он получил одностороннее представление о человеке и мог в нём видеть только лживое общественное животное, каковым он не должен был быть, так как цивилизация не разрешает открытой войны; недостаток в знакомствах заставил его позабыть, что есть еще и другое животное, которое очень любезно «между стеклом и стеной», если его не раздражать, и которое охотно проявляется со всеми своими ошибками и слабостями, когда нет свидетелей. Это он забыл и поэтому был весьма огорчен.
Но что еще хуже: он потерял уважение к себе самому, даже не совершив никакого поступка, которого он мог бы стыдиться. Но другие отняли у него это уважение, а это так легко. Всюду, куда бы он ни приходил, проявляли к нему пренебрежение, и как мог он, у которого с молодости отняли чувство собственного достоинства, уважать того, кого презирали все остальные. Но поистине несчастным бывал он, когда видел, что консервативные журналисты, которые защищали всё обратное или, по меньшей мере, не нападали на него, пользовались довольно большим почетом. Значит, не столько как журналист, сколько как защитник несчастных пользовался он всеобщим презрением.
Много раз он бывал добычей жестоких сомнений. Например, в отчете об общем собрании страхового общества «Тритон» он употребил слово «шарлатанство». После этого «Серая Шапочка» в длинной статье отвечала на это и ясно доказала, что это общество национально — патриотическое и филантропическое предприятие, так что он сам чуть было не поверил, что он неправ; долго мучило его угрызение совести, что он так легкомысленно отнесся к доброму имени людей.
Он сейчас находился в состоянии колебания между фанатизмом и полнейшим равнодушием; и только от ближайшего импульса зависело, в какую сторону он подастся.
Жизнь за это лето так опостылела ему, что он с злорадством встречал каждый дождливый день, и он испытывал относительно приятное чувство, когда видел, что пожелтевшие листья, один за другим, проносятся через дорожки сада.
Так сидел он и для своего утешения строил адски веселые рассуждения о своем существовании и его целях, когда худая, костлявая рука легла на его плечо, а другая ухватила его руку, — казалось ему, что это смерть захотела увести его. Он поднял голову и испугался: перед ним стоял Игберг, бледный, как мертвец, с исхудавшим лицом и с такими выцветшими глазами, какие бывают только от голода.
— Добрый день, Фальк, — прошептал он еле слышным голосом, дрожа всем телом.
— Добрый день, брат Игберг, — ответил Фальк и почувствовал себя в довольно хорошем настроении. — Присядь и выпей чашку кофе, чёрт дери! Как дела? У тебя вид, как будто ты пролежал подо льдом!
— О, я был так болен, так болен!
— Ты провел хорошее лето, в роде меня!
— И для тебя оно было таким тяжелым? — спросил Игберг, в то время как слабая надежда на то, что это действительно так, осветила его желтовато-зеленое лицо.
— Я хотел бы сказать одно: «Слава Богу, что проклятое лето кончилось! По-моему, пусть хоть круглый год будет зима! Мало того, что сам мучишься, еще приходится видеть, как другие радуются! Я ногой не ступил за город! А ты?»
— Я не видел ни одной сосны с тех пор, как Лундель в июле уехал из Лилль-Янса! Да и к чему видеть сосны! Это не так необходимо! И замечательного в них тоже ничего нет! Но сознание, что не можешь сделать этого, это горько!
— Э, что нам до этого! На востоке собираются тучи, значит завтра у нас будет дождь; а когда опять засветит солнце, — будет осень. На здоровье!
Игберг взглянул на пунш так, как будто думал, что это яд, но всё же выпил.
— Значит, ты написал для Смита рассказ об ангеле хранителе или страховом обществе «Тритон»? — начал опять Фальк. Разве это не было противно твоим убеждениям?
— Убеждениям? У меня нет никаких убеждений!
— У тебя нет?
— Нет! Только у глупых людей они есть!
— Ты аморален, Игберг!
— Нет! Видишь ли, если у глупого человека есть мысль о себе или о другом, то он возвышает ее до убеждения, держится за него крепко, хвастается им, не потому, что это вообще убеждение, а потому, что это его убеждение! Что касается до страхового общества, то мне кажется, что это мошенничество! Оно, наверно, вредит многим, именно акционерам; но другим, именно дирекции и служащим, оно доставляет тем большее удовольствие; значит, всё же делает много добра!
— Неужели же ты утратил, друг, всякое представление о честь?
— Надо всё приносить в жертву своему долгу!
— Да, я с этим согласен!
— Первый и важнейший долг человека — жить, жить, во что бы то ни стало! Этого требует и божеский и человеческий закон!
— Но честь нельзя приносить в жертву!
— Оба закона, как уже сказано, требуют всяческих жертв — они требуют от бедняка, чтобы он пожертвовал так называемой честью! Это жестоко, но за это не отвечает бедняк!
— Не веселые у тебя взгляды на жизнь!
— Откуда мне их иметь?
— Да, правда.
— Чтобы поговорить о другом, — Ренгьельм написал мне письмо. Я тебе прочту кое-что из него, если хочешь.
— Он, ведь, поступил в театр, как я слыхал?
— Да, и, кажется, ему там приходится не весело.
Игберг вынул письмо из бумажника, засунул в рот кусок сахару и стал читать: