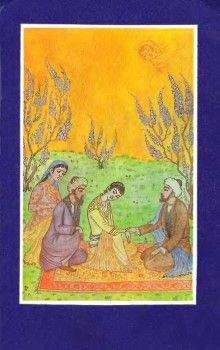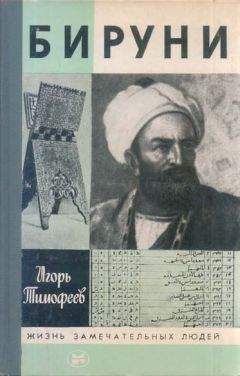Ах, тетушка, тетушка!
Эмир Масуд, слушая ровное, спокойное чтение Абу Тахира, представил себе лицо любимой тетушки. Небольшого роста, худенькая, смуглая… Необычайно сильной воли человек, и узкие черные глаза ее, тонко оттененные сурьмой, горят необычной внутренней силой. Говорили, что острым языком и волевым, упрямым характером своим Хатли-бегим напоминала деда, эмира Сабуктегина, больше, чем сын Сабуктегина, а ее брат, Махмуд.
Эмир Масуд вырос у тетки и любил ее больше, чем родную мать. Любил в детстве. С детства и до сих пор… Вот стоит ему сейчас закрыть глаза, как оживают в душе воспоминания детства, когда по ночам, лежа в своей постельке или в постели самой тетушки, он слушал ее сказки. По сей день звенит в ушах ее нежный голос, ее ласковые слова: «маленький мой», «стригунок мой», «верблюжонок мой»…
Услышав слова «почтенный Ибн Сина», эмир пришел в себя:
— Ибн Сина? Прочитай-ка снова!
Абу Тахир оторвал взгляд от письма, посмотрел на эмира. Потом снова забубнил:
— «Луч очей моих, опора моего уже совсем хилого тела, любимый племянник мой, хочу известить тебя о том, что здесь очутились мы в водовороте весьма странных событий. Родитель, наша надежда и опора, послал, как тебе известно, Абул Вафо в Хамадан, дабы найти там великого целителя, достопочтенного Ибн Сину. Ваш чистейший родитель питает такую искреннюю веру в этого мудрого лекаря, будто ниспослал эту веру в его душу сам всевышний! Однако вскоре стало известно, что Абул Вафо возвращается ни с чем, то есть не нашел он почтенного Ибн Сину. Узнав о том, мы все весьма опечалились. Но не прошло и нескольких дней, как во дворце распространились слухи, будто бы сбежавший от посланца чародей, почтенный Ибн Сина, сам появился в светлейшей Газне! Пока мы тайком устанавливали достоверность этих слухов, врачеватель куда-то исчез. Таинственным образом появился, таинственным же образом исчез. Неужели ты, великий эмир, не сможешь найти этого кудесника-исцелителя? Поищи, верблюжонок мой, может, и найдешь! И может быть, этот кудесник сможет излечить тяжкий недуг моего брата, вот тогда и повелитель тоже изменит свое отношение к тебе!»
Вот так история!
Рыжий Абул Вафо месяц назад заявился к эмиру Масуду. Покорно скрестив руки на груди, весь в слезах, он, сидя вот на этой курпаче, рассказал эмиру о своих неудачных поисках. В чистосердечие этого человека Масуд, конечно, не верил. Знал, что этот хитрец, перед тем как прийти со склоненной головой к нему, эмиру Масуду, в Исфахан, сначала тайно побывал у правителя Хама дана: просил и требовал от него найти Ибн Сину. Но досточтимый Ибн Сина куда-то исчез, и вот тогда, оставшись с носом, Абул Вафо заявился сюда. Не зря когда-то покровитель правоверных сказал сыну, что не нравятся ему рост и чалма этого дылды. Вот и ему, эмиру Масуду, тоже не понравился некрасивый, неуклюжий человек в большой зеленой чалме. Ведь и благословенный родитель, и этот неуклюжий дылда скрывали свои замыслы: прежде чем тайно отправляться в Хамадан, мимо Исфахана, пришел бы к нему, и эмир Масуд давно бы на шел врачевателя, видно, тоже обуянного гордыней. Потому как давно опасается эмира Масуда правитель Хама дана Ала-уд-Давля и чуть ли не каждый день посылает ему своих послов с дорогими подарками и низкими по клонами покорности.
Но, зная все это, что же сделал он сам, эмир Масуд? Рассердившись на блоху, сжег одеяло? Ничего он не предпринял после того, как Рыжий покинул Исфахан, омывая слезами козлиную свою бородку. Ничего не предпринял! С юной Каракез провоевал!.. Благодарить надо тетушку — вдохновила его на борьбу, на дело…
Эмир приосанился, сверху вниз посмотрел на склоненного Абу Тахира.
— Сейчас же отправь гонцов в Хамадан. Ала-уд-Давлю — к ответу. Немедля узнать, выехал ли тот исцелитель-гордец Ибн Сина в Газну иль до сих пор скрывается где-то в окрестностях города… И пусть сейчас же подготовят мое строгое послание… сейчас же.
Сказал и протянул руку за кувшином, наполненным шербетом.
1
«Сегодня — четыреста двадцать первый год хиджры, четвертый день рабиул ахира[68]. Ранним утром мы вышли из Хамадана и перед закатом солнца, пройдя пять фарсангов, остановились у одного рабата[69]. Шейху не захотелось ночевать в закрытом помещении, почему разбили мы палатку прямо в степи, у холма, а коней и верблюдов, стреножив, пустили пастись неподалеку.
В полночь к шейху явился некий человек и вручил письмо. Было поведано в нем, что к правителю Хамадана прибыл гонец от эмира Масуда, из Исфахана. Прибыл за шейхом. И два месяца назад тоже являлся гонец, но тогда — из Газны, от самого султана Махмуда. Шейх-ур-раис не отозвался на призыв пойти на службу к султану, почему вынужден был скрыться, хотя из города не выехал. Но на сей раз не было иного выхода, как только покинуть город: султан Махмуд всемогущ, но от нас далеко, а эмир Масуд совсем рядом, рукой подать: правитель Хамадана — Ала-уд-Давля признавался, что боится эмира Масуда пуще всякого дэва, сын султанов — кровожаден и скор на расправу: одним разом захватив Исфахан, он мог, если б захотел, за день захватить и Хамадан.
Всю ночь мы готовились к дороге. В один сундук сложили книги, в другой — редкие лекарства. На всякий случай наполнили водой бурдюки, чтобы не оказаться без воды в степи под голым небом, взяли палатки. Остальное, что наметил шейх, близкие друзья обещали доставить вскорости, после того как в городе немного успокоится.
Рано утром вышли мы из ворот Хамадана. Помню, я спросил у шейха: „Куда?“ Шейх вздохнул и ответил: „Я и сам не знаю, сынок… Вот уже четверть века прошло, как покинул я родные края и скитаюсь, будто дервиш бесприютный. А где навсегда обрету покой, не знаю… тоже… И куда приклонить голову — может, в ту сторону, где далекий-далекий Багдад, сынок?“
Больше до самой остановки нашей у рабата шейх не проронил ни слова.
Тяжко на сердце наставника моего. Оно и понятно. Вот уже давно нет никаких вестей о том, жив или нет его младший — единственный — брат, который обосновался в Исфахане. А еще скажу о книгах и рукописях, оставшихся в библиотеке, — по слухам, ее предали огню. Мрак неведения о судьбе самого дорогого…
Солнце уже ушло за горизонт, пока мы ставили палатки неподалеку от рабата. Свершив вечернюю молитву, шейх пошел пройтись. Вернулся, когда закат совсем догорал.
Шейх был сильно взволнован!
— Удивительно! Эта зеленая степь, эти холмы очень похожи на окрестности Бухары. И кишлаки, которые сейчас я увидел издали, с холма, — ну, просто моя родная Афшана… Так похожи, так похожи…
Шейх прослезился.
— Видно, сильно соскучились вы по родным местам, мавляна, — сказал я. — Так зачем нам далекий Багдад? Отправимся в Бухару! И далекую, но и близкую вам.
— Если бы это было возможно… Но там, в Бухаре, — Алитегин. Если я появлюсь в Бухаре — считай, что меня уже везут в Газну. Алитегин — кусок подола на халате султана Махмуда… Ну да ладно… А что, Абу Убайд, — обратился ко мне шейх, и лицо его посветлело. — Не попробовать ли нам и здесь, в этой палатке, заняться „Книгой справедливости“. Наш эмир Ала-уд-Давля получил — с посвящением — „Книгу знания“… А справедлив вость… никому не посвящается… Давай-ка бери бумагу и перо. Я буду говорить, а ты записывать.
Шейх всегда делал так: коли настигала беда, коли скорбные мысли бередили душу, он окунался в работу.
И сегодня до поздней ночи он — говорил, я — писал. „Книгу справедливости“ я начинал читать в городе, но, оказывается, плохо запомнил текст. А шейх все помнил. Восстанавливал то, что было в рукописи, добавлял, обновлял, продолжал… Он ходил по палатке и говорил, говорил — четко, ясно, будто пред ним уже лежала рукопись. Потом мы погасили свечи и легли спать. Я, оказывается, так устал, что уснул сразу же, лишь голову положил на подушку. Вдруг проснулся, вижу — шейх встает, зажигает свечу, надевает старый чекмень. Я приподнялся на ложе, удивленно смотрю на него.
— Вспомнил родные места, сынок, и сон потерял. Ты спи, спи, а я выйду, немного пройдусь.
Я спросил:
— Почему вы, учитель, взяли старый треух, натянули рубище дервиша?
— На всякий случай.
Шейх задул свечу, вышел из палатки, а я снова лег спать».
Из воспоминаний Абу Убайда Джузджани
2
…Ибн Сина приподнял полог палатки, тяжелый, мокрый от ночной росы, и вышел наружу: свежий воздух волной омыл лицо.
Бескрайняя степь дышала предрассветным покоем. Небо полнилось крупными белыми и чисто блестящими, будто натертые динары, звездами. Казалось, что небо и степь соединились друг с другом, а крупные звезды рассыпались не только по небу, но и по земле, — собирай пригоршнями и можешь снова закинуть их ввысь, можешь рассыпать вокруг… ну, хоть вокруг этой палатки.
Абу Али припомнилась такая же тихая теплая ночь, давняя-давняя: привиделась телега, влекомая волами по пыльной дороге… Тогда небо тоже было чистым и полным звезд.