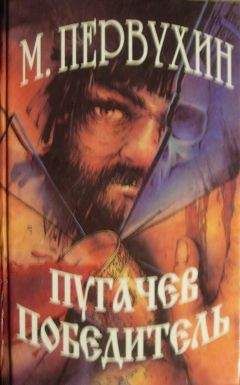После убийства Харловой Пугачев запил, допился до белой горячки, а оправившись, уже не связывался надолго ни с одной из попадавших в его руки полонянок. Продержит у себя одну-две ночи и дарит наложницу кому-нибудь из своих приближенных. Из женщин, бывших в его гареме в те дни, когда была жива Харлова, теперь оставалось всего шесть: две рослые донские казачки, одна туполицая мордвинка, еле говорившая по-русски, одна похожая на обезьянку молоденькая калмычка, одна белобрысая и ширококостная сибирячка-староверка и, наконец, неудержимо быстро старевшая цыганка.
Все они давным-давно смертельно надоели «анпиратору», и он уже несколько месяцев не удостаивал ни одну из них своим вниманием. И сам не знал, зачем таскал их с собой. Много раз подумывал, что от них следовало бы отделаться, но думал как-то лениво.
Теперь, накануне выступления в поход на Казань, он обратился к Зацепе:
— А что, граф, у тебя баб много?
Зацепа махнул пренебрежительно рукой:
— До черта! А что?
— А я хотел, было, тебе еще какую подкинуть!
— Кого это? — насторожился Зацепа.
— Да из моих кобыл степных! — продолжал Пугачев. — Надоело таскать с собой.
— Правильно! — одобрил Зацепа. — Пойдем к Казани — новых наберем, сами не будем знать, куда девать. Я до поповских дочек ласый: сытые они, поповны-то.
— Ну, так как же? Берешь моих, что ли?
— Всех?
— А бери хошь и всех. Разе мне жалко?
— А я что с ними буду делать?
— А то же, что и я. Спать с ними будешь.
— Вона. Меня и на моих не хватает! — признался Зацепа. — Я не воробей... Калмычку я бы взял: забавна она. Словно зверушка какая...
— Ничего. Веселая, когда не хнычет. Бери...
— Взял бы и цыганку: любопытно. Николи с цыганками не путался,
— А что особенного? — зеевнул Пугачев. — Баба, так она баба и есть... Бери!
— А остальные мне не надобны!
— А куда же мне их девать? — вяло вымолвил Пугачев. — Хлопуше отдавал — не хочет. Юрке навязывал — не берет, его Фимка какая-то оседлала. Князь Мышкину предложил — так он только что плечами пожимает. Брезговает...
— Отдай французу. Вот, мол, тебе из царских рук презент.
— И то! — оживился Пугачев. — Они, французы, говорят, страсть какие до баб ласые. Пошлю ему Машку Хоперскую. А езовиту пожертвую Антонидку. А шведу долгоногому — Федорку... Ха-ха-ха! Спасибо за совет. Ну, так вот что: распорядись там... Пущай отведут девок-то на пчельник. Останнюю, Василиску сибирскую, гони к полячишке.
Час спустя Зацепа вернулся, весело хохоча и заявил, что «кобылы»-то пошли к «немцам» с удовольствием, но там, на пчельнике, вышла осечка. Иностранцы изумились, смутились, посовещались, а потом отказались принять присланных им женщин.
— Испужались? — засмеялся Пугачев. — Ну, ин ладно! Когда так, то так. Скажи-ка Шакирке, что ль...
— Прикончить?
— Не таскать же, в сам-деле с собою... Пущай Шакирка как следовает... Он это дело умеет. Он тогда Харлову-то резал.
Шакирка, рябой башкир, получив приказание расправиться с четырьмя женщинами, осклабился:
— Секим башка. Немношка рэзал горла будим!
Вытащил из сапога кривой нож, попробовал лезвие на ногте, убедился, что нож достаточно остер, и направился в развалку к мазанке, где сидели на полу связанные по рукам наложницы Пугачева. При виде палача женщины, подняли крик.
— Зачэм кричал, бариня? — пошутил Шакир, подходя к рослой смуглой казачке. — Савсэм нэ нада кричал.
Он пинком свалил ее на глиняный пол мазанки, уперся коленом в ее спину, оттянул голову за длинную косу, повел нож под подбородок и сильно дернул его вверх и вбок.
— Зачэм кричал? — сказал укоризненно, переходя к следующей жертве.
Это была вторая казачка, та самая, которая в свое время, взъевшись на «барыню» Харлову, больше других способствовала гибели несчастной красавицы.
Казачка замерла, когда Шакир положил ей корявую лапу на плечо, но потом рванулась, изогнулась и впилась острыми белыми зубами в руку башкира. Тот взвизгнул и, не взвидев света, ткнул ее кривым ножом в грудь. И еще, и еще.
Забившаяся в угол сибирячка выла, как пес на луну.
Немного спустя, Шакирка вышел из мазанки и сказал, сверкая белыми зубами:
— Кунчал работа. Всио чотыри рэзал, как барашка.
— Молодец! — похвалил его Зацепа.
— Я молодца! — сам себя похвалил Шакирка. — Я — джигит... Я усио рэзал.
— Вот, погоди: доберемся до Москвы — там тебе работы!
— Будэм дэлай работа. Я радый! — согласился Шакир.
Покончив со своим «гаремом», Пугачев отдал строгий приказ «очистить лагерь». Было разрешено оставить одну бабу или девку на десяток мужчин, а остальных — выгнать. В стане поднялись вопли.
Изгонять баб был отправлен особый отряд из варнаков Хлопуши, к которым присоединились и добровольцы башкиры и киргизы. В стоявшем несколько в стороне отдельном лагере ведших с пугачевцами оживленную торговлю киргизов и персюков спешно заключались сделки: пугачевцы отводили туда женщин и продавали их желающим. Покупатели в этот день были очень разборчивы: так как от продавцов отбоя не было.
— Бери, Ассан! — уговаривал молодой казак знакомого киргиза. — Марьей зовут. Работящая!
Ассан смерил стоявшую перед ним бледную бабенку с головы до ног, потом замотал головой.
— Нэ надо!
— Почему не надо? — приставал казак. — Дешево отдам. Она и ткать, она и прясть, она и все такое...
— Нэ биром. Она с брухом.
— Велика важность! — возразил казак. — Разродится, вот и все.
— С брухом нэ нада. Бэз брухом биром.
Казак дернул бледную бабенку за руку.
— Ну, и куда ж я тебя, Марья, девать буду?
Баба всхлипнула.
— Пойдем в степь, что ли ча...
Она покорно пошла за ним.
— Зайдем в кусты, что ли? — предложил казак.
Они зашли в кусты. Несколько минут спустя казак выскочил из кустов и побежал в стан. Тело Марьи лежало в кустах, нелепо раскинув голые ноги. Из перехваченного ножом горла выскакивали струйки крови и стекали под запрокинутую голову.
Отряд Хлопуши отобрал у пугачевцев свыше двух тысяч женщин и полторы тысячи детей и загнал их в овраг. При входе в овраг была поставлена стража из старых варнаков. Бабы плакали, выли, проклинали варнаков и Хлопушу. Варнаки посмеивались.
Какой-то одноглазый соратник Хлопуши добродушно уговаривал бесновавшихся баб:
— Чего бунтуетесь? Как смеете против царской воли идти?
— Душегубы вы! — отвечала какая-то средних лет растрепанная баба, державшая на тощих коричневых руках недавно рожденного младенца. — Что мы теперь делать будем? Бросаете нас, как собак...
— А то и будете делать, что раньше делали! — отвечал равнодушно варнак. — Ваше дело женское известное. Ребят делать будете!
— Да с кем же мы ребят делать будем, когда вы уходите? — голосила тощая баба.,
— Н-ну, было бы болото, а черти будут. Мы уйдем — другие придут. Рази в степу людей мало? Разойдетесь по хуторам...
— Да вы, каторжные ваши души, все кругом разорили! Да вы всех мужиков угоняете.
— Ну, вот и дура! Как это — всех мужиков? Мало ли их на развод остается? Старики сидят. Мальчишки. А вашу сестру куда ж собою таскать?
— А мы как же теперя кормиться будем? — озлобилась баба. — Кричали, кричали, что, мол, и тебе воля, и тебе земля, и все такое, а теперь — на, поди: как собак в степь выгнали...
— Тако дело, милая. Ничего не поделаешь!
— Так зачем всю кашу заварили?
— Ну, это не твоего ума дело. И нечего изводиться Другим хуже приходится. Вон, царь-батюшка своих четырех девок прирезать приказал.
— Так то — шкуры барабанные. А я мужа мово законная жена. Мы в церкви венчаны... Своим хозяйством жили. У нас три лошади были, двух коров держали...
— Твои коровы при тебе и остаются.
— Как бы не так! Остаются! Лошадей под конницу забрали. Коров угнали да зарезали. Одна изба пустая осталась!
— А ты тому радуйся, что хоть изба осталась.
— А что я в пустой избе делать буду? Есть-то с ребятами что буду? Отдайте мне мово мужа, душегубы! Сейчас отдайте!
Варнаки расхохотались.
— Сейчас, сейчас отдадим! — сказал один из них. — Андрюшка! Ты, что ль, ейного мужа в штаны спрятал? Отдавай ей сейчас. Нечего, брат, баловаться!
Андрюшка, подмигивая, спросил у плачущей бабы, хочет ли она в самом деле, чтобы он, Андрюшка, отдал ей мужа. Баба разразилась проклятиями, потом упада на землю и принялась кататься, дико воя.
Как только, стало темнеть, на необозримом пространстве вокруг Чернятиных хуторов запылали бесчисленные огни костров. Пугачевский стан предался буйному веселью, празднуя канун своего отправления в великий поход на Москву. Пир шел до утренней зари.
На рассвете пушечный выстрел возвестил начало похода. Лагерь пришел в движение. Люди, бросая медленно догоравшие костры, расходились по своим полкам и сотням. По мере сбора людей, один полк за другим снимался с места и выходил в степь, на дорогу.
Часов в десять утра последняя конная сотня, державшая в лагере караул, покинула Чернятины хутора и на рысях ушла в степь. Тогда пробывшие эту ночь в овраге бабы вырвались и с воплями бросились догонять ушедшую в поход армию «его пресветлого царского величества, анпиратора Петра Федорыча всея России». Впереди всех бежала тощая темнолицая баба, прижимавшая к высохшей груди посиневшего от истошного крика ребенка.