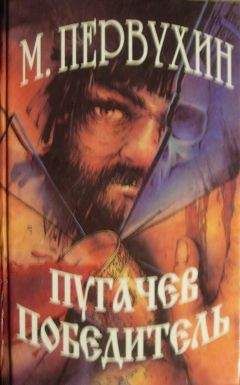Часов в десять утра последняя конная сотня, державшая в лагере караул, покинула Чернятины хутора и на рысях ушла в степь. Тогда пробывшие эту ночь в овраге бабы вырвались и с воплями бросились догонять ушедшую в поход армию «его пресветлого царского величества, анпиратора Петра Федорыча всея России». Впереди всех бежала тощая темнолицая баба, прижимавшая к высохшей груди посиневшего от истошного крика ребенка.
В этот час сам анпиратор со своим главным штабом, со всем генералитетом, министрами и иностранными гостями находился уже далеко от Чернятиных хуторов, в степи. Там он расположился на вершине древнего кургана, насыпанного неведомыми руками над могильным ложем неведомого степного батыра, и, сидя на привезенной из Чернятина парчевой скамье с заменявшим ему скипетр архиерейским жезлом в руке, пропускал мимо себя идущее на Москву воинство.
Для торжественного случая он облачился в казакин из алого сукна, на мускулистых ногах были шаровары из ярко-желтого китайского шелка и красного сафьяна сапоги с загнутыми концами. Казакин был перетянут голубой муаровой лентой, за ней виднелись ручки дорогих турецких пистолетов и кинжалов. Левая рука «анпиратора» опиралась на эфес кавказской сабли.
Безносый Хлопуша и безухий Зацепа, иначе граф Чернышев и граф Путятин, стояли за его спиной. Дальше держался скромно одетый князь Федор Мышкин-Мышецкий, а на полускате расположилась группа иностранных гостей.
По пыльной дороге, огибавшей курган, проползала огромная змея. Сменяя друг друга, проходили, не заботясь о строе, отряды пеших и конных. Впереди каждого отряда шла более или менее значительная часть вооруженных ружьями и тесаками людей. За ними валили оборванцы, вооруженные цепами, вилами, дубинами. За этими следовал разнокалиберный обоз из самых разнообразных экипажей, влекомых разномастными лощадьми. За обозом следовали табуны запасных коней, были видны порой стада коров и овец. Среди толп пеших шли ведомые киргизами вьючные верблюды, а в обозе плыли тяжелые двухколесные степные арбы, в которых сидели смуглые оборванные женщины.
Проходя мимо кургана, каждый отряд выкрикивал «ура» или «виват», и нестройные, недружные крики сливались в один дикий рев.
Светлоглазый швед Анкастром, скрестя руки на груди, стоял лицом к дороге и смотрел, не отрываясь, на проходившие полки пугачевцев. Его казавшееся каменным худощавое лицо оживлялось несколько, когда мимо кургана, джигитуя, проносился какой-нибудь казачий отряд или когда разномастные степные лошади протаскивали неуклюжую полевую пушку на окованных железными ободьями высоких колесах. Стоявший рядом со шведом шевалье де Мэрикур сначала не без любопытства созерцал представлявшуюся его взору пеструю картину, обмениваясь впечатлениями с тучным итальянцем, но скоро это ему надоело, и он принялся чистить себе ногти маленьким напильничком.
Когда мимо кургана проходила одна часть обоза и в клубах рыжеватой пыли проплыла арба с выглядывавшими из нее смуглыми женщинами, шевалье обратился к Бардзини с вопросом:
— Желал бы я знать, что они сделали с теми четырьмя женщинами, которых хотели нам вчера навязать. Одна из них, та, чернобровая, было по-своему недурна. Дикарка, конечно, но...
Анкастром, чуть повернувшись лицом к французу, отозвался спокойно:
— Граф Путятин сказал мне, что по приказанию самого... императора всех четырех зарезали...
— Что такое? — поразился шевалье.
— Все четыре зарезаны. Резал их какой-то Шакир. Казак или татарин, или киргиз... Он при императоре исполняет, если можно так выразиться, роль государственного палача...
— Послушайте, капитан! Неужели же...
— Их зарезали, как овец! — повторил швед и опять стал пристально смотреть на проносившийся в это время мимо кургана маленький конный отряд.
— Черт знает что такое! — пробормотал шевалье. — В конце восемнадцатого века...
Бардзини, усмехнувшись, вымолвил:
— Восемнадцатый век — это в Европе. А здесь — Азия...
Минуту спустя Бардзини поинтересовался:
— Что это за часть? Казаки, что ли?
Мимо кургана проходили нестройные ряды конницы. Всадники в пестрых халатах восседали на степных лохматых конях. Вооружены они были частью длинноствольными ружьями с мултуками и подсошниками, а больше копьями, кривыми саблями и луками. Пестрые колчаны, полные оперенными стрелами, болтались у луки каждого седла. Впереди ватаги конных халатников шла группа музыкантов: тут были зурначи, балалаечники, трубачи и барабанщики. Один из всадников вез длинный шест с перекладинками, к которым были подвешены белые и черные конские хвосты, алые и синие ленты, погремушки и колокольчики.
— Иррегулярная конница, — откликнулся швед. — Башкиры... Только вчера пришли на соединение с императором. До пяти тысяч человек... И два таких же отряда идут еще.
Бардзини круто повернулся к переставшему чистить ногти шевалье и, понизив голос, спросил:
— Вы историю изучали, мой юный друг?
— Военную — да, — ответил небрежно француз. — А что?
— Я хотел бы знать, что вам напоминает это зрелище?
Шевалье с легким недоумением посмотрел на патера.
— Что мне это зрелище напоминает? Но, мой бог, признаюсь...
— Вам не кажется, что мы созерцаем повторение похода какого-нибудь Дженгис-хана или Тимурлена из недр Азии на Европу.
— Пожалуй...
— Вам не кажется, — продолжал патер, — что это дикие орды степных хищников, варваров-номадов, идут для уничтожения европейского мира, как шли в старые годы орды монголов?
Швед повернул лицо к разговаривавшим, его губы дрогнули, но он ничего не сказал.
Шевалье нетерпеливо пожал плечами и капризно вымолвил:
— Я знаю только одно, что теперь было бы хорошо выпить стакан вина. Впрочем, я не отказался бы и от омлета...
Не дождавшись конца прохождения своей армии, Пугачев спустился с кургана, сел на своего вороного и ускакал вместе со своей свитой. Следом за ним уехали и иностранцы.
Местность опустела: змея проползла дальше. Но часа через два на той же дороге показалась новая жидкая толпа. Это бежали вслед за ушедшей на северо-запад армией «Петра Федорыча» просидевшие ночь в овраге и оставленные в Чернятине лишние бабы. Впереди бежала, прижимая к груди коричневые руки, темнолицая женщина с выпученными глазами и искривленным ртом. По ее щекам катились капли пота, смешиваясь со степной пылью. Из груди вырывалось хриплое дыхание Ребенка, которого она еще недавно держала на руках, у нее уже не было.
Едва в Казани стали поговаривать о возможности нападения пугачевцев на бывшую столицу казанского царства, старый князь Иван Александрович Курганов всполошился и решил, что всей кургановской семье не мешало бы перебраться из Казани в Москву. Привыкшая безропотно подчиняться мужу княгиня Прасковья Николаевна и на этот раз не подняла голоса против принятого Иваном Александровичем решения, хотя путешествие в Белокаменную по дальности расстояния и путало старую женщину. Родственники Кургановых, Лихачевы, только недавно выстроившие в Казани большой дом, уже успевший прослыть в простодушной Казани «лихачевским дворцом», относились к намерению князя отрицательно: им казалось, что о серьезной опасности для Казани со стороны мятежников и речи быть не может. Поднятое беглым казачишкой, треклятым Емелькой Пугачевым, восстание идет явно на убыль. Мятежники разорили огромный край, а теперь и сами не знают, что делать, ну, и мечутся из стороны в сторону, но до Казани им не добраться. А если и доберутся, то расшибут себе лбы. Казань — это тебе не какая-нибудь степная крепостца, где все укрепление — земляной вал да гнилой частокол и где вся сила — какие-нибудь два или три десятка мирно доживающих свой век инвалидов под начальством выслужившегося из рядовых в поручики коменданта. В Казани живет губернатор, имеется гарнизон и не какой-нибудь, а настоящий гарнизон из двух пехотных полков, трех батарей и трех сотен донских казаков, под начальством старого опытного боевого генерала Лохвицкого, ветерана Семилетней войны. Правда, полки — Белевский и Елецкий — далеко не в полном составе и на три четверти состоят из молодых рекрутов, но они представляют достаточно внушительную силу. Артиллерия тоже не так плоха. Да, кстати, из старого арсенала вытащили сотни чудом уцелевших пушек, отлитых когда-то петровским мастером Виниусом. А казаки — лихие ребята и ими командует пользующийся среди донского казачества большой известностью полковник Шамраев. Он держит своих донцов в руках. Но мало и этого: едва вступив в должность, генерал Лохвицкий сейчас же настоял на сформировании волонтерских дружин из местных обывателей. В эти дружины записались поголовно все воспитанники трех старших классов местной «Благородной гимназии», многие семинаристы, молодые купцы и дворяне. Сейчас имеется уже четыре такие дружины: гимназическая, семинарская, купеческая и дворянская. Ружья выданы из цейхгауза. У дворян и гимназистов имеется даже по собственной пушке. Каждый день дружины производят экзерциции на военном плацу, на берегу Кабан-озера.