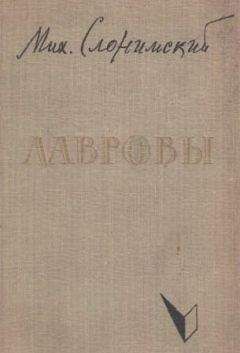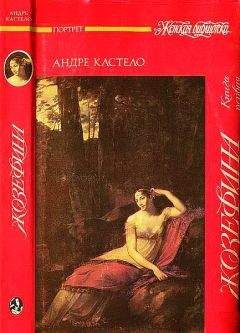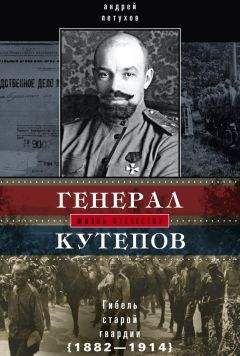Борис не умер. Он выздоровел и получил отпуск на три месяца.
V
На станцию Бориса вез длинный и тощий белорус. Сани скользили по морозной дороге; белый лес недвижно стыл вокруг, и небо было как пласт льда. Ночью, когда желтая луна и мириады звезд повисли над лесом, белорус обернулся к Борису и стал длинно рассказывать то, чего никак не мог забыть, хотя это случилось уже двадцать лет назад. И рассказ этот был, казалось, такой же длинный и тощий, как и сам рассказчик. Двадцать лет тому назад пятилетний сын белоруса, играя, упал в колодец и потонул. Вот и все. Но белорус еще и еще повторял, как он рубил в лесу дрова, а мать не уследила за мальчиком, и как он потом, чтобы заглушить горе, ездил в город — поглядеть на людей, и как город не помог, и как через год умерла жена, и как он после этого остался совсем один на свете. Белорус не жаловался. Он просто рассказывал и никак не мог замолчать. Кончив рассказ, он начинал его сызнова, с новыми подробностями, спокойно и внимательно восстанавливая во всей безнадежной полноте несчастье своей жизни. Он не заметил крутого склона дороги и не уследил за лошадью. Сани заскользили вниз, и когда белорус повернулся к лошади, натягивая вожжи, было уже поздно: сани опрокинулись.
Борис падал в яму неизвестной глубины. Он ранил руки о лед, стараясь уцепиться и удержать падающее тело. И когда он уже перестал падать, когда он полз на четвереньках по дну оврага, ему казалось, что падение все еще продолжается.
Голос белоруса послышался сверху:
— Убился?
— Нет, — ответил Борис и, медленно карабкаясь по склону, выбрался наверх.
Белорус выправлял сани с таким видом, как будто ничего не случилось. Лоб его был рассечен, и кровь стекала к носу, но это его мало занимало. Когда Борис вновь уселся в сани, белорус стегнул лошадь и больше уже не произнес ни одного слова.
К вечеру они добрались до станции. Отсюда Борис должен был — по литеру — ехать через Полоцк в Петроград. На станции надо было бояться коменданта. Этого коменданта боялись не только солдаты, но и офицеры: он находил особое удовольствие в том, чтобы посадить под арест отпускного. Тех, кто возвращался на фронт, он не трогал. Борис в ожидании поезда лежал в зале третьего класса, жуя купленную в буфете французскую булку. Рядом с ним — на полу и на лавках — валялись солдаты разных полков. Пахло махоркой, человеческим потом и грязными портянками.
Поезд появился у платформы неожиданно. Борис вошел в вагон и столкнулся лицом к лицу с поручиком своего полка, командиром пятой роты. Спиртной дух шел от него. Борис, вытянувшись, отдал честь офицеру. Офицер взял солдата за плечо.
— Где-то видел твое лицо, — сказал он и прибавил: — Иди за мной.
— Слушаюсь, — отвечал Борис.
Офицер привел его в купе первого класса. Там уже сидел толстый человек в военной шинели с погонами статского советника.
— Это свой, — сказал офицер (было неясно, чиновник ли свой или Борис). — Он тоже пьет.
И поставил перед Борисом бутылку коньяку.
— Пей из горлышка, — приказал он. — И без передышки все. А то убью.
Борис растерялся. Но пьяный офицер вытянул из кобуры револьвер. Статский советник, увидав револьвер, зашевелился, хотел встать, но не смог: он только жалобно пискнул.
— Наша императрица дрянь, — сказал поручик, с наслаждением соединяя эти два несоединимые для офицера слова. И в бешенстве прибавил: — Пей, а то убью! Все равно конец.
Борис в смятении взял бутылку, поднес ко рту, опрокинул, и коньяк ожег ему горло. Ему стало тепло и хорошо. Он пил уже с удовольствием, но это продолжалось недолго. Он опрокинул в себя полбутылки, а больше пить не мог. Но он должен был пить и пил с ужасом, в тоске, видя, что дуло револьвера направлено ему в лицо, а коньяку в бутылке осталось еще много. Сделав последний глоток, Борис выронил пустую бутылку.
Это были не его, это были чужие пальцы, которые уже ничего не могли удержать. И когда Борис встал с мягкого дивана, то это не он встал, это ноги сами подняли его тело. Все действовало вне его воли: ноги, руки, голова. Он не владел собственным телом. Сознание его работало с полной ясностью, но оно работало отдельно от тела. Борис услышал словно под сурдинку или сквозь шелк сказанные слова:
— Однако как вы побледнели…
Это испугался статский советник, испугался до того, что сказал солдату вы. Услышав это вы, Борис подумал: «Я умираю».
Борис стоял перед зеркалом, вделанным в дверь. Он видел в зеркале свое лицо. Лицо было светло-зеленое.
Он так и не узнал, каким образом очутился в купе проводник, который вывел его на площадку: наверное, офицер и чиновник не захотели, чтобы солдат умер при них — противно все-таки. На площадке проводник сунул Борису в рот два пальца. Через минуту Борис уже страдал, выгибаясь в тьму полесской ночи. Он радовался тому, что страдал: жизнь вернулась в его тело, он был спасен. А потом, покоряясь жалостливому проводнику, он прошел к нему в купе и там заснул. Когда он проснулся, было уже утро. Он вышел на площадку. Поезд мчался, окруженный снежными пространствами полей и лесов. Площадка вагона ходуном ходила под ногами Бориса.
В буфете полоцкого вокзала Борис, к ужасу длинноусого официанта, съел три обеда подряд. Потом он сел в поезд на Двинск.
От Двинска до Петрограда ему мешал спать вольноопределяющийся, черный и вертлявый, с двумя георгиевскими крестами на груди. Он все приставал к Борису:
— Как вы думаете, поместят в «Огоньке» мой портрет? Два «георгия» и рана все-таки. А?
— Не знаю, — отвечал Борис.
— Ну, а как вы все-таки думаете? — допытывался вольноопределяющийся.
Ночью у него возникли другие вопросы. Он задумчиво крутил черный ус и то и дело обращался к Борису:
— А насчет девочек в Петрограде как, а?
— Не знаю, — отвечал Борис.
— Не знаете! — усмехнулся черноусый. — Разрешите не поверить. Сами говорили, что петроградец, — значит, знаете. А я — не петроградский, я туда в Павловское училище еду.
Борис невольно подумал: а если б этот черноусый уже кончил Павловское училище, небось не так бы разговаривал, а просто выгнал бы его, солдата, из купе.
На петроградском вокзале Борис пошел в телефонную будку: позвонить домой, предупредить о своем приезде. И когда он услышал вопрос матери: «Кто говорит?» — он ответил искусственным, не своим голосом:
— Это говорит ваш сын.
Услышав это «ваш», телефонистка обернулась к нему в изумлении и строго оглядела его с ног до головы.
Уже по дороге домой Борис вспомнил об этой телефонистке, и его передернуло. Но в самом деле, почему он так неожиданно сказал «вы»? Неужели только потому, что он был на войне? И сразу понял: нет, война тут ни при чем.
Трехмесячный отпуск спас Бориса от верной гибели. Полк, в котором он служил, был разгромлен у озера Нарочь, куда генерал Куропаткин согнал войска для того, чтобы прорвать германский фронт. Там в первые же минуты боя была утеряна связь между частями; артиллерия била по своим — русские снаряды двенадцать раз подряд выбивали русских солдат из немецких окопов, которые были заняты после первой же атаки. Измена и предательство губили русских солдат.
VI
Дома Борис ничего нового не нашел: та же жизнь, те же характеры. Только его старший брат, служивший в Союзе городов, носил теперь солдатскую гимнастерку, военные штаны и высокие сапоги. Мать, узнав, что Борис получил трехмесячный отпуск, сразу же успокоилась:
— Ну вот, значит, ты больше не поедешь на эту войну. Убеди Юрия, чтоб он тоже бросил об этом мысли. Почему ты тогда не написал ему? Ведь я просила. Он поехал на фронт и еле спасся. Он попал под ураганный огонь.
Юрий уже перебивал:
— Нет, ты представь себе! Я был на второй линии окопов ночью. Необычайно красиво. Зеленые ракеты, прожектор… И солдаты мне понравились. А потом начался настоящий обстрел — из пулеметов. Пули визжали. Я целый час был в окопах. Георгиевскую медаль получил — вот! — На груди у него действительно серебрилась георгиевская медаль 4-й степени. — А на следующий день я попал под аэроплан. Я стоял под деревом, и шрапнель рвалась прямо надо мной. А ты как? Ты писал, что в боях не участвовал. За что ж у тебя «георгий»?
И, не дожидаясь ответа, он продолжал рассказывать о своей поездке на фронт.
Борис вымылся, надел чистое белье, лег на диван и заснул. Он спал до обеда, когда его отец, инженер, вернулся с завода. Отец разбудил его — потряс сына за плечо и проговорил:
— Так вот как — вернулся? Это хорошо.
За обедом Юрий восхищался:
— Ужасно стало интересно жить. Все-таки война очень полезна людям — она как-то встряхивает. — И он протянул матери тарелку; мать положила ему две лучшие котлеты. — Очень интересно, — продолжал Юрий, принимаясь за котлеты. — Я обязательно еще раз поеду на фронт. Обязательно…