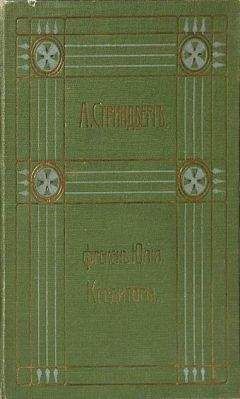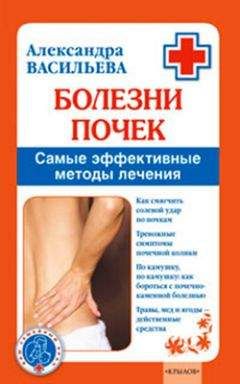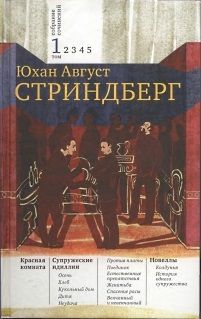Пауза продлилась дольше, чем была задумана. Карл Николаус имел время мысленно измерить свое торжество. Словечко «негодяй» пришлось ему по вкусу, оно ему так было приятно, как будто он сказал «вон!» А открывание двери и ответ Андерсена, и появление бумаги, — все сошло так хорошо; связку ключей он не забыл на ночном столике, замок отперся без затруднения, доказательство было крайне связно, и вывод был удочкой, поймавшей щуку. Хорошее настроение вернулось к нему; он простил, нет, он забыл, всё забыл, и когда он захлопнул кассу, он навсегда замкнул неприятную историю. Но он не захотел так расставаться с братом; у него была потребность поговорить с ним о чем-нибудь другом, набросать несколько пригоршней болтовни на неприятную тему, увидеть брата при обыденных обстоятельствах, хотя бы за столом, едящим и пьющим; люди всегда имеют довольный вид, когда они едят и пьют, а он хотел видеть его довольным; он хотел видеть его лицо спокойным и не слышать дрожи в его голосе, и он решил пригласить его завтракать. Трудность заключалась теперь в том, чтобы найти переход, подходящий мостик, чтобы перешагнуть через пропасть. Он поискал в голове и не нашел ничего. Он поискал в кармане и нашел… спичку.
— Чёрт дери, ты не закурил сигару, малый! — сказал он с искренней, нелицемерной теплотой.
Но малый так искрошил во время разговора свою сигару, что она не могла больше гореть.
— Вот тебе другую!
Он вытащил свой большой кожаный портсигар.
— Вот, возьми! Это хорошие сигары!
Брат, не бывший в состоянии обидеть кого бы то ни было, принял предложенное с благодарностью, как протянутую руку.
— Так, малый, — продолжал Карл Николаус и заговорил приятным компанейским тоном, которым так хорошо умел пользоваться, — пойдем в ближайший ресторан и позавтракаем! Пойдем!
Арвид, не привыкший к любезности, был так тронут, что поспешно пожал руку брата и выбежал вон через лавку на улицу, не прощаясь с Андерсеном.
Брат остолбенел, этого он не мог понять; убежать, когда его пригласили к завтраку; убежать, когда он не сердился! Убежать! Этого не сделала бы собака, если бы ей бросили кусок мяса!
— Это так страшно! — пробормотал он и зашагал. Потом он подошел к своей конторке, подвинтил табурет, как только можно было, и влез на него. С этого возвышенного места он взирал на людей с более высокой точки зрения и находил их маленькими, но не настолько, чтобы они не годились для его целей.
Был девятый час того прекрасного майского утра, когда Арвид Фальк после сцены у брата шел вниз по улицам, недовольный собой, недовольный братом и недовольный всем светом. Он желал бы, чтобы небо покрылось облаками и чтобы сам он попал в плохое общество. Что он негодяй, этому он вполне верил, но всё же он не был собою доволен; он так привык предъявлять к себе высокие требования, и ему так было вколочено, что в брате он должен видеть нечто в роде вотчима, к которому он должен был питать большое уважение, почти благоговение. Но всплывали и другие мысли, и они тревожили его. Он был без денег и без дела. Последнее было пожалуй худшим, ибо безделье при его вечно бодрствующей фантазии было для него злым врагом.
В неприятном размышлении вышел он на Горденгатан; он пошел по левому тротуару, миновал драматический театр и вскоре вышел на улицу Норланд; без цели шел он всё дальше; вскоре мостовая стала неровной, деревянные домики стали попадаться вместо каменных домов; плохо одетые люди кидали недоверчивые взгляды на хорошо одетого господина, так рано посетившего их квартал; исхудавшие собаки угрожающе рычали на чужого; среди групп артиллеристов, рабочих, служащих в пивных, прачек и мальчишек прошел он конец улицы Норланд и вошел в Хмельный Сад. Коровы генерал-фельдцейхмейстера уже начали пастись; старые, голые яблони делали первые попытки пустить почки; липы уже позеленели, и белки играли в верхушках. Он прошел мимо карусели и попал в аллею, ведущую к театру; там сидели мальчишки, удравшие из школы, и играли в пуговицы; несколько дальше подмастерье маляра лежал на спине в траве и смотрел сквозь высокий свод зелени на облака; он так беззаботно насвистывал, как будто ни мастер ни товарищи не ждали его, а мухи и другие насекомые слетались и топились в его горшках с красками.
Фальк пришел к Утиному пруду; там он остановился, изучая разновидности лягушек, наблюдал пиявок и поймал водяного жучка. Затем он занялся бросанием камешков в воду. Это привело его кровь в движение, и он почувствовал себя помолодевшим, почувствовал себя мальчишкой, удравшим из школы, свободным, гордо свободным. Ибо это была свобода, купленная довольно большой жертвой. При мысли, что он свободен и свободно может общаться с природой, которую он понимал лучше, чем людей, только унижавших его и старавшихся сделать его дурным, он обрадовался, и вся тревога исчезла из его сердца; он встал, чтобы продолжать свой путь из города.
Он вышел на Северную Хмельную улицу. Там он увидел, что в заборе напротив выломано несколько досок и что дальше вытоптана тропинка. Он пролез сквозь отверстие и вспугнул старую женщину, собиравшую крапиву. Он пошел через большие табачные поля, где теперь была дачная колония, и очутился у дверей «Лилль-Янс».
Здесь весна действительно распустилась над маленьким, красивом поселком, с его тремя хижинами среди цветущей сирени и яблонь, защищенными от северного ветра сосновым лесом, по ту сторону шоссе. Это была совершеннейшая идиллия. Петух сидел на оглобле водовозной тележки и пел; цепная собака валялась на солнце и ловила мух, пчелы тучей стояли над ульями; садовник стоял на коленях у парника и полол редиску; синицы и овсянки пели в крыжовнике; полуодетые дети отгоняли кур, которые стремились испытать всхожесть разных только что посеянных семян. Над всем распростиралось светло-голубое небо, и сзади чернел лес.
Около парников в тени забора сидели два человека. На одном была высокая черная шляпа, потертая черная одежда, лицо его было длинное, узкое и бледное, и он имел вид священника. Другой представлял собою тип цивилизованного крестьянина, с полным телом, с опущенными веками, монгольскими усами; он был плохо одет и был похож на что угодно — на бродягу, на ремесленника или на художника; вид у него был обнищалый, но своеобразно обнищалый.
Худой, который, казалось, мерз, несмотря на то, что солнце грело его, читал толстому — что-то громко по книге; у того был вид, как будто он испытал все климаты всей земли и все их переносит спокойно.
Худой читал сухим, монотонным голосом, лишенным всякого звука, а толстый от поры до времени выражал свое удовлетворение фырканьем, иногда превращавшимся в хрюканье, и, наконец, он отплевывался, когда слова мудрости, которые он слышал, превосходили обычную человеческую мудрость. Длинный читал:
«Высших основоположений, как сказано, три: одно абсолютно необходимое и два относительно необходимых. Pro primo: абсолютно первое, чисто безусловное основоположение должно выражать действие, лежащее в основе всякого сознания и делающее его возможным. Это основоположение — тождество, А=А. Оно неопровержимо и не может быть никоим образом устранено, если устранять все эмпирические определения сознания. Оно основной факт сознания и потому необходимо должно быть признанным; кроме того оно не является условным, как всякое другое эмпирическое положение, но, как следствие и содержание свободного действия, оно безусловно».
— Понимаешь, Олэ? — прервал чтец.
— О, это восхитительно! Оно не является условным, как всякое другое эмпирическое положение. О, какой человек! Дальше, дальше.
«Если утверждать, — продолжал чтец, — что это положение достоверно без всякого дальнейшего основания»…
— Послушай-ка, какой мошенник: «достоверно без всякого дальнейшего основания», — повторил благодарный слушатель, хотевший тем стряхнуть с себя всякое подозрение в том, что он не понимает. — «Без всякого дальнейшего основания» — как тонко, вместо того чтобы сказать просто: «без всякого основания».
— Продолжать мне? Или ты намерен прерывать меня еще часто? — спросил обиженный чтец.
— Я не буду тебя больше прерывать; дальше, дальше.
— Так, теперь заключение (действительно великолепно): «если присваиваешь себе способность, что-нибудь допустить»…
Олэ фыркнул.
— …«то устанавливаешь этим не А (А большое), а только то, что А=А, если и поскольку А вообще существует.
Дело и идет не о содержании положения, но лишь о его форме. Положение А=А таким образом по содержанию своему условно (гипотетично) и лишь по форме своей безусловно».
— Обратил ли ты внимание на то, что это — А большое.
Фальк услышал достаточно, это была ужасно глубокая философия Упсалы, заблудившаяся до этих мест, чтобы покорить грубую натуру столичного жителя; он взглянул, не свалились ли куры с нашестов и не прекратила ли свой раст петрушка, слушая самое глубокое, что когда-либо говорилось на человеческом языке в «Лилль-Янсе». Он был удивлен, что небо еще на своем месте, несмотря на то, что оно было свидетелем такого испытания мощи человеческого духа. Одновременно с этим его низменная человеческая природа стала настаивать на своих правах: он почувствовал, что его горло пересохло, и решил зайти в одну из хижин и попросить стакан воды.